АК 21
Выставка художника-фронтовика Алексея Коблова
Выставка художника-фронтовика Алексея Коблова
к 100-летию со дня рождения
В моей коллекции присутствуют более 100 работ художника-фронтовика Алексея Васильевича Коблова. С ним я лично был знаком. На мой взгляд, его творчество является честным, передает дух времени и внутренний мир художника.
1937 год Алатырское художественно-граверное училище
Алексей Коблов (крайний справа во втором ряду)
Алексей Коблов (крайний справа во втором ряду)
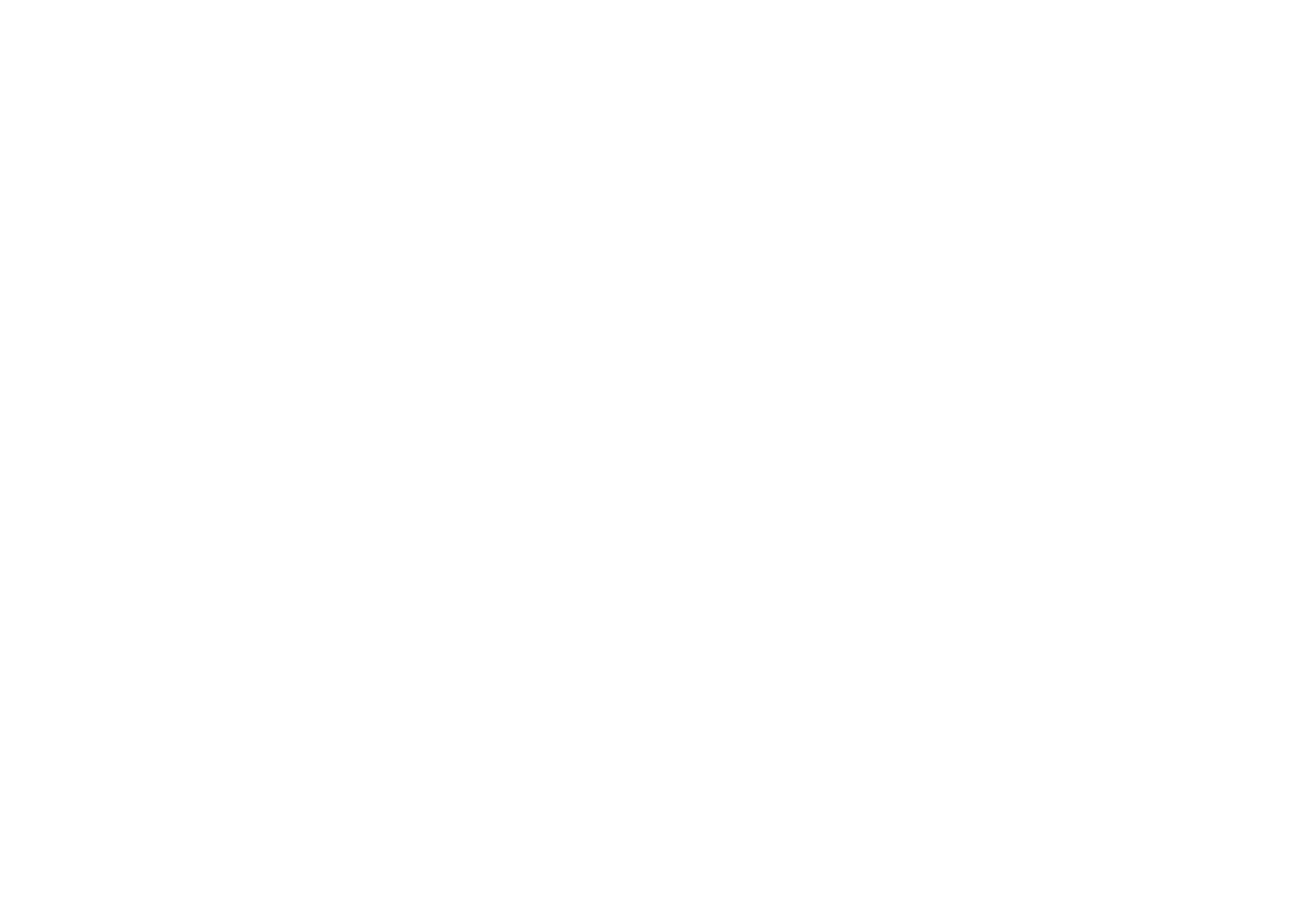
Коблов Алексей Васильевич (1921-2008). 1984 Автопортрет в 63 67,5х81 Холст, масло.
Коллекция Морозова
Коллекция Морозова
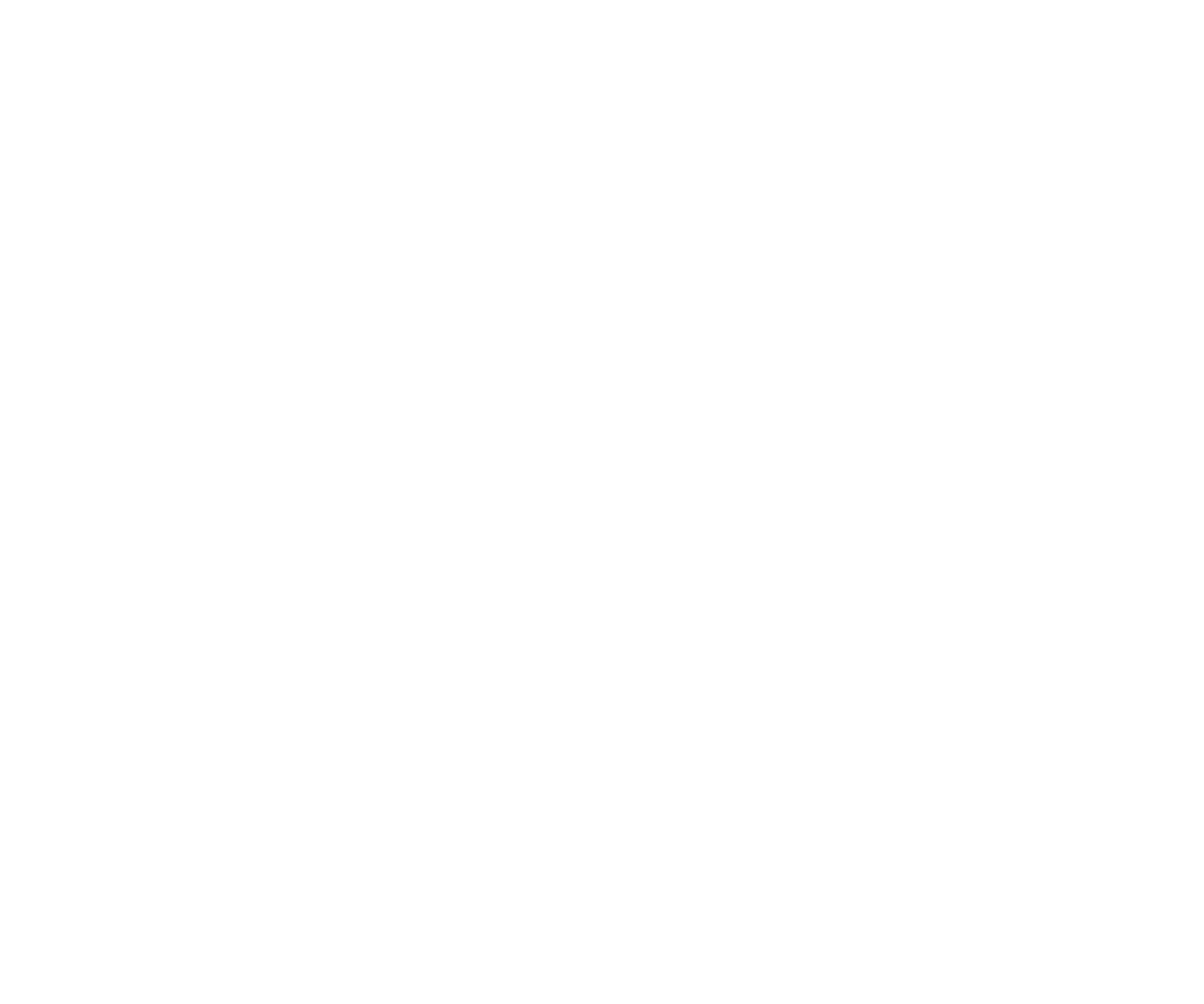
Коблов Алексей Васильевич (1921-2008). 1999 Мой дом 63,5х83,5 Холст, масло.
Коллекция Морозова
Коллекция Морозова
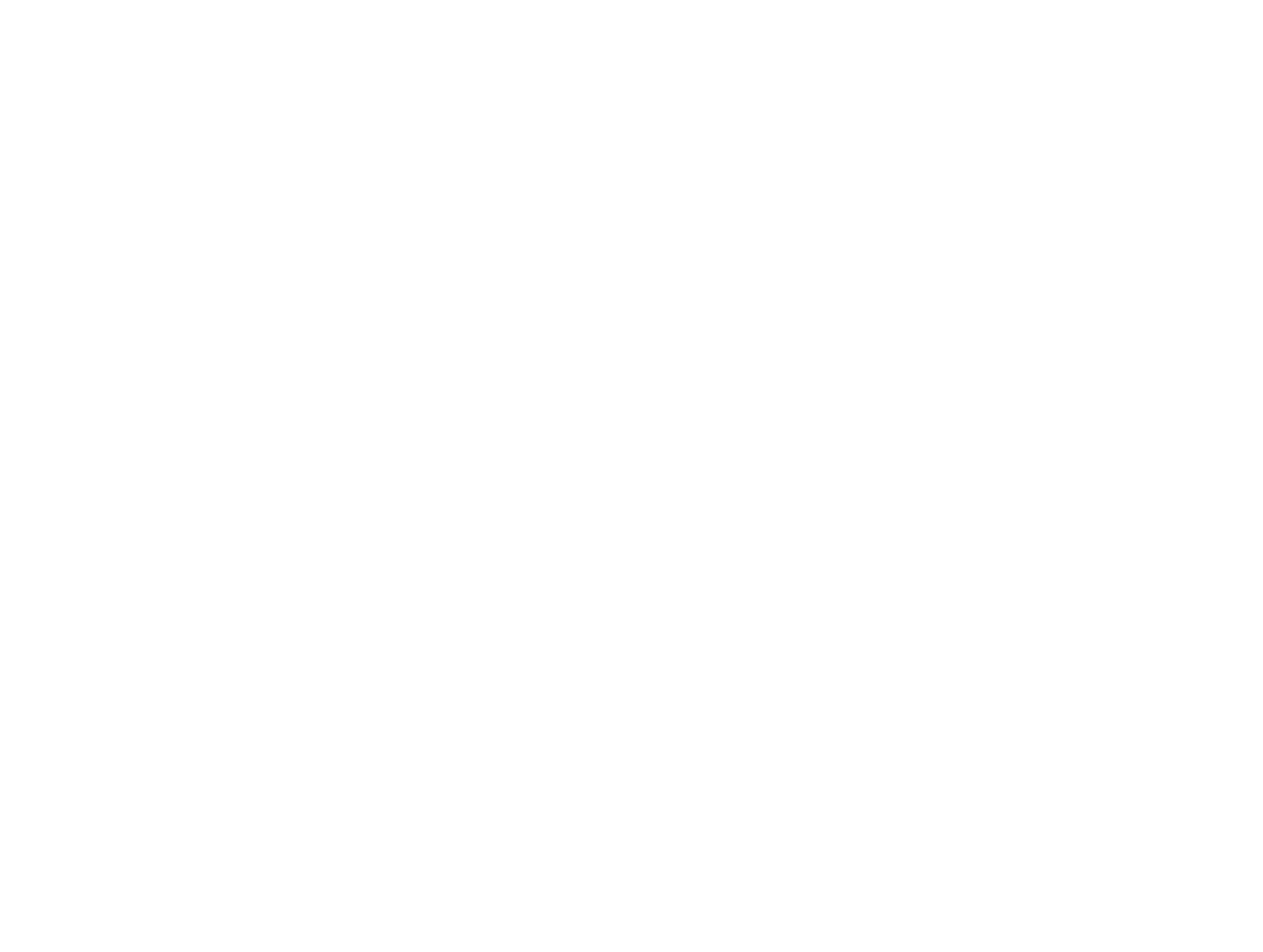
Коблов Алексей Васильевич (1921-2008). 1978 Натюрморт с айвой 105х79 Холст, масло Одна из лучших работ по мнению самого художника. Коллекция Морозова
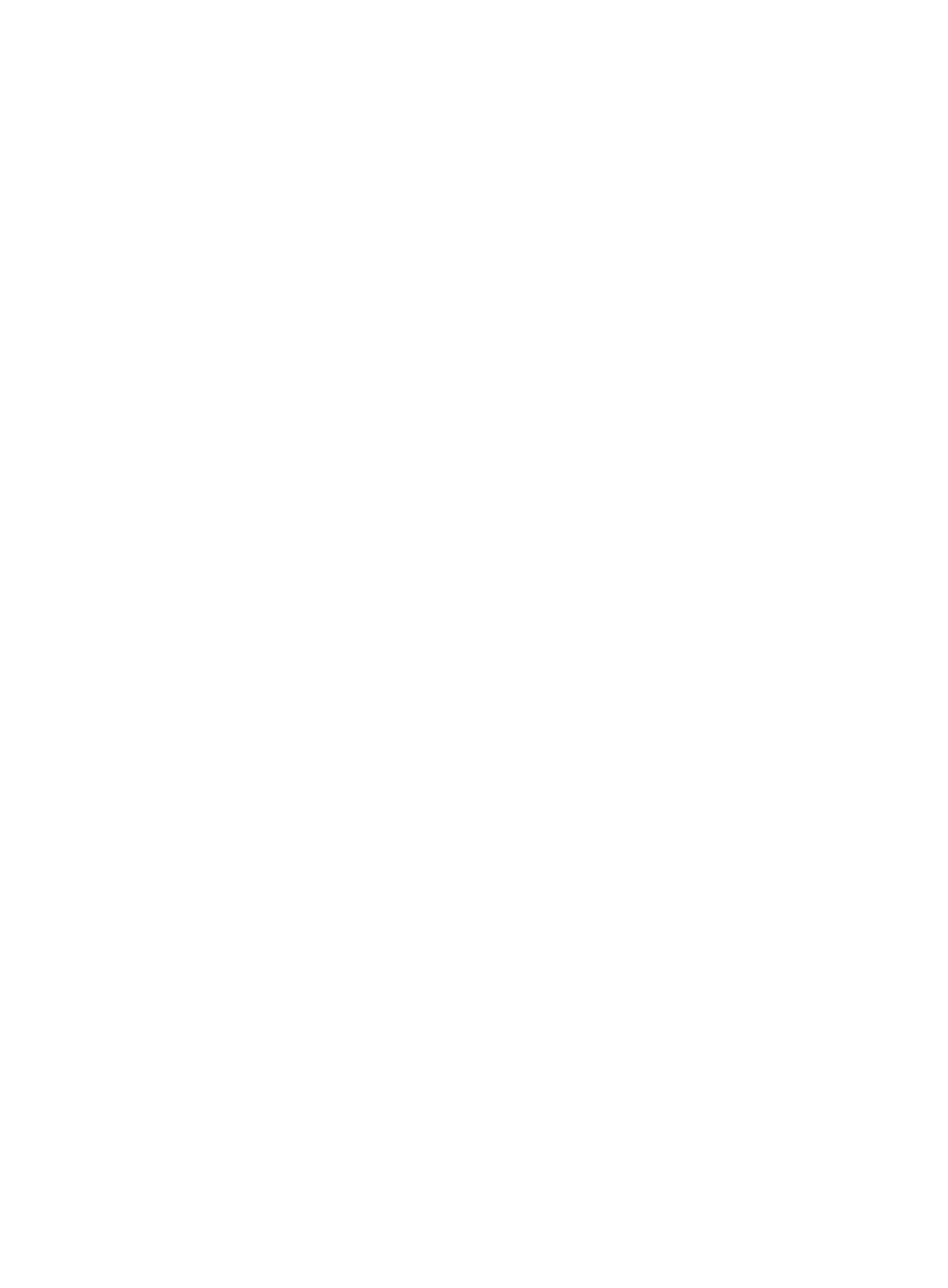
Коблов Алексей Васильевич (1921-2008). 2007 Натюрморт в 86 56х94 Холст, масло Одна из последних работ художника. Коллекция Морозова
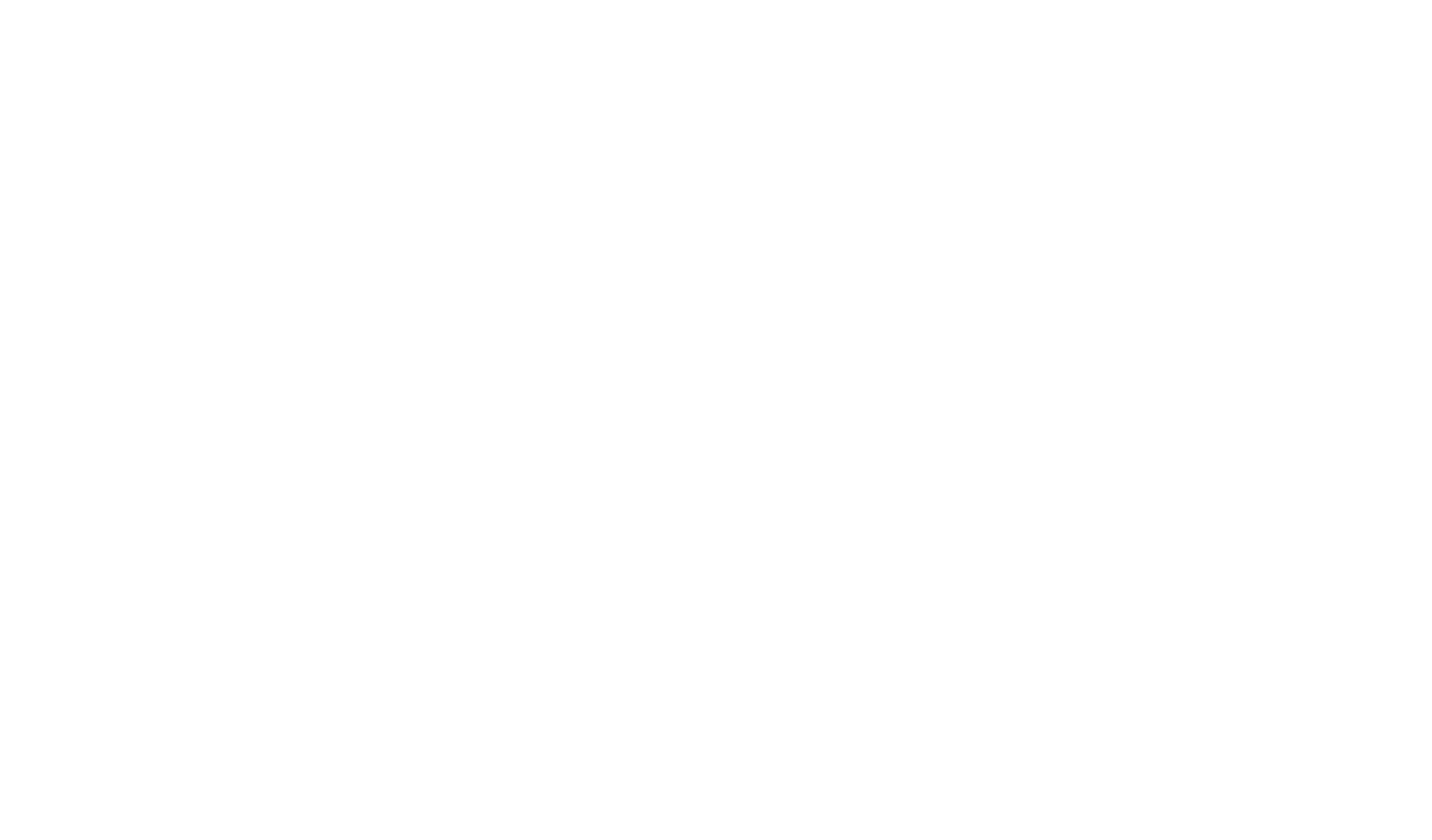
Коллекция работ в 4-х частях
Е. Водонос
Алексей Коблов – взгляд сквозь призму времени
Сам он, изображая всё, «как есть», ничего не добавляя «от себя» к натурному мотиву, кроме сущей малости – он претворял его в искусство.
Борис Сурис «О Петре Ивановиче Львове»
Борис Сурис «О Петре Ивановиче Львове»
Есть художники, которые, казалось бы, не нарушая господствующих устремлений эпохи, совершенно непредсказуемо оказываются на обочине художественного процесса родного города и всей страны. Такой оказалась и судьба Алексея Васильевича Коблова. И не то, чтобы он на протяжении всей своей долгой, насыщенной творчеством жизни испытывал какие-то серьёзные гонения – напротив, начиная с 1951 года, этот талантливый живописец в течение сорока лет относительно регулярно участвовал на групповых, областных, а дважды и на региональных художественных выставках, полвека работал в местном отделении художественного фонда РСФСР, выполняя разнообразные заказы, провёл около десятка небольших персональных выставок в Саратове и области.
И всё же что-то мешало Алексею Коблову оказаться в центре художественной жизни города, стать своим в довольно пёстрой среде саратовских живописцев. На мой взгляд, он оказался недооценен и профессиональным сообществом живописцев, и газетной критикой, и музейными специалистами. В коллекцию современного искусства Радищевского музея он попал уже посмертно: дочь художника передала его мужской портрет, один из его букетов и два характерных для этого живописца пейзажа. Едва ли не единственная публикация, персонально посвящённая специально талантливому мастеру,– это заметка Бориса Глубокова «Букеты Коблова» в газете «Земское обозрение» за 17 мая 2004 года.
В 1980-е – 1990-е годы мне довелось несколько раз беседовать с Алексеем Кобловым. Понравилось в его жизненной позиции то, что был он самодостаточен бытийно и творчески, при этом самокритичен и духовно трезв: абсолютно чужд искательства, не вхож в руководящие «круги» местного отделения Союза художников, совершенно лишён самомнения, нередко встречающегося среди творческих людей. Обострённое чувство собственного достоинства не переходило у него в кичливую гордыню, повышенную притязательность.
Такое складывалось впечатление, что он упорно добивался не только внешней независимости, но и внутренней свободы, а добившись, обрёл ощущение спокойного самоуважения и значимости своего труда. Я не ведал его жизни ранней поры, времени творческого становления – передо мной был достаточно зрелый, очень скромный человек с развитым чувством достоинства и художник со своим выстраданным и окончательно выработанным мироощущением, со своей давно уже установившейся живописной манерой, безусловно, обладающей запасом немалой художественной прочности.
Отход от «союзовских» разборок – это вынужденный акт человеческого и творческого самоопределения. Соблазн лёгкой и поверхностной работы как будто никогда не посещал его: претенциозное эффектничанье, щеголяние лихостью письма, новизной приёма всегда были чужды ему. Его творческую поэтику не так уж легко выразить словом или как-то чётко определить. Принципиальная традиционность, сохраняющая живую конкретность восприятия и передачи на плоскости холста реальных форм увиденного, корректируется в его холстах импульсивным и остро-взволнованным переживанием эмоционального состояния конкретного мотива, помогающим его образному самопроявлению.
Павел Кузнецов называл это стремлением «передать ощущение живого образа восприятия». Отсюда эта персональность интонаций в работах Коблова, делающая его вполне традиционное письмо неповторимым и легко узнаваемым. В собственном освоении традиции художник ищет и обретает свой путь, подтверждая старую истину, что оригинальность находят только тогда, когда её специально не выискивают. Это как раз то, что справедливо именуют «творческой силой традиции». Ибо подлинное искусство (вне зависимости от масштаба дарования мастера) рождается выявлением сущностного, а вовсе не стремлением кого-то поразить и тем привлечь к себе повышенный интерес. Идут года, и историческая дистанция даёт иную ауру восприятия, вносит свои коррективы в оценки оставленного каждым художником творческого наследия, заметно повышая акции скромных, но подлинных и честных мастеров, чьи полотна выдержали строгую проверку временем.
Интересно, что и в перестроечные годы не чувствовалось в нём никакой растерянности и боязливой подавленности, охватившей большинство его коллег, когда многие вынуждены были расстаться со своими устоявшимися принципами. Лишение государственного патроната искусству внесло отрезвляющие коррективы в оценки творческих достижений. Коблов же в контексте перестроечной эпохи чувствовал себя куда комфортнее, чем иные, казалось бы, более успешливые мастера совсем недавней поры. Уход от идеологического нажима он ощущал как благо: это никак не задевало глубинных мотиваций его творчества, всегда обращённого именно к отдельному человеку, а искусство пресловутого «кооперативного времени» этому вполне соответствовало.
Думается, что подходит пора существенной переоценки творчества талантливого и необычайно работоспособного живописца Алексея Васильевич Коблова. Его многочисленные «Букеты» рассеяны по частным собраниям, картинным галереям и квартирам любителей искусства не только Саратова и России, но и ряда зарубежных стран. Это значительно затрудняет такую задачу. Но существует достаточно большой массив отборных его полотен (более сотни работ разных жанров), находящийся в доме местного коллекционера Андрея Морозова, который не только бережно хранит эти полотна, но и сумел опубликовать подавляющее большинство из них в прекрасно изданном альбоме. Здесь же публикуются бесхитростные, очень искренние воспоминания художника «Моя жизнь» и краткое, точное и внятное послесловие искусствоведа Людмилы Пашковой с верной оценкой представленного в альбоме кобловского наследия.
Почин пересмотра места этого живописца в художественном процессе Саратова 1950-х – 2000-х годов как будто уже положен. Остаётся закрепить его представительной выставкой полотен мастера в залах Радищевского музея, откликами в местной прессе, на сайте музея, изданием серьёзного каталога, а возможно и показом такой выставки за пределами нашего города, публикациями информативного характера в столичной печати. Не мешало бы провести на выставке вечер памяти А.В. Коблова с привлечением местных художников, студентов Боголюбовского училища и широкого круга любителей искусства. Полагаю, что всё это в пределах возможностей при наличии совместных усилий коллекционера, Радищевского музея и других учреждений культуры Саратова.
Что же собой представляет коллекция полотен Алексея Коблова, собранная Андреем Морозовым? В основном это произведения от периода ранней зрелости художника с середины 1950-х годов и почти до конца его художнической карьеры: портреты, пейзажи, букеты цветов. И особой, бросающейся в глаза разницы в полотнах за полувековой период невозможно ощутить. Эволюция его стилистики была неспешной, почти незаметной. Ибо в самом методе построения образа художник достаточно стабилен. Его отличает завидная цельность творческого мышления. Это касается всех жанров его творчества, но особенно отчётливо проявилось в серии его полюбившихся зрителям «Букетов».
Если говорить о его «Букетах», то в целом это как бы некий единый глубинный мотив в бесконечном разнообразии конкретных его воплощений. И всегда это образ и обобщённый, и вполне конкретный, легко опознаваемый, что обеспечило ровный и достаточно высокий уровень всей этой обширнейшей серии. Привлекательно удивительное упорство, с которым на протяжении стольких лет он настойчиво шёл от реального мотива в его конкретной видимости к художественному образу, не навязывая ему при этом своё субъективное восприятие. Ибо не было у него никогда стремления к своевольному преображению натуры. В каждом из почти повторяющихся по своим излюбленным мотивам «Букетов» ощущение внутренней выношенности образа, его художественной полноценности. Удивительны свежесть воплощения их на плоскости холста и, вовсе не акцентированная, но вполне ощутимая персональность кобловской интонации, делающая его «Букеты» легко узнаваемыми.
Подкупает целомудренное отношение художника к самой форме и окраске любого цветка: «Натюрморт – это радость жизни. Поэтому цветы писать неправильно, плохо – нельзя. Они сами требуют, чтобы их написали красиво. Не красиво, в смысле ярко, а тонко, нежно. Они тоже имеют свой портрет, каждый – свой характер. Важно схватить его. Очень быстро. Цветы долго писать нельзя, они завянут, поэтому я их быстро схватываю. И получалось, конечно».
В этих словах самого живописца ощутимы не только поэтичность его художественного мышления, но и важность для него предметно-изобразительного начала, как и стремление передать общую цветовую мелодию, нечто сокровенное, таящееся в любом «Букете». Но цвет у него не ослабляет живописную пластику: он не только окрашивает конкретный цветок, но и родит пластическое строение любого из них, определяет значение всякого в пространстве букета, в его целостном живописном звучании. Отсюда пронизанный нежным свечением точный мазок, мягко лепящий каждый цветок, уверенно и точно передающий строение любого отдельного цветка, их структурную ритмику, нежное сияние цвета, его светоносность и характер его звучания в общей композиции «Букета».
Художник довольно точно определил свой метод работы: «Я из каждого цветка выжимал его суть, добывал – работал и переписывал, и добивался, чтоб он говорил о себе», вспоминал он. В этой красочной и пластической найденности каждого цветка, живущего своей особой потаённой жизнью, в умении схватить на лету её изменчиво-подвижное мгновение, как бы помогая самовыявлению природного естественного цвета его лепестков, передать их слитный цветовой аккорд в букете рождается неподдельное ощущение, что художник чувствует живую и трепетную форму их бытия. Ибо это не аналитически-отчуждённое его наблюдение за жизнью цветов, а как бы слияние с ними, не только упорным их изучением, но и эмоциональным вчувствованием. Отчего и воссоздание их на холсте получалось у него достоверно правдивым, а не педантически натурным. Он научился в едином творческом акте сочетать дотошную пристальность наблюдения с нескованной искренностью переживания.
Уроженец Саратова, замечательный живописец и педагог Алексей Карёв всегда требовал «согласовать чувство и знание» в любом произведении. Коблов не только выращивал замечательные цветы на собственном подворье, но и внимательно следил за их ростом и формированием. Соблюдая честную натурность, он (при всей своей пристальной и зоркой наблюдательности) всё-таки стремился в живописном воссоздании их не к буквальному сходству, а к образной точности, переводя на холсте натуру на язык достоверного и лирического восприятия разом, достигая этого в чувственно-конкретной и вполне осязаемой форме.
Вероятно такую раскованность, такую маэстрию письма он обрёл не сразу. Не довелось видеть самых ранних его «Букетов», но убеждён, что он изначально стремился к повышенной жизненности их воплощения. Этика профессии, воспринятая им, не позволяла иного, подхода. Знаю, как упорно и методично разрабатывал он эту серию мотивов, достаточно близких по творческой своей задаче, наращивая своё мастерство и обретая высокий профессионализм. Алексею Коблову присуща стилистическая стабильность, настойчивая выработка собственной живописно-пластической манеры. Но всё-таки многочисленные его букеты при внешней своей близости не производят впечатления отвердевшего навсегда приёма.
Высокий уровень живописного ремесла обеспечивал стабильную качественность такой стремительно нарастающей массы кобловских «Букетов». Справедливо заметил некогда В.А. Фаворский: «Бывает ремесло без искусства, но не бывает искусства без ремесла». Без нарастающего уверенного мастерства ему едва ли столь органично удавалось бы добиться в большинстве своих букетных композиций такой убеждающей передачи трепетности, словно бы неостановленного и перетекающего мгновения их пребывания в пространстве холста.
Его традиционность – абсолютно нескованная, свободная. Проявляется она и во всегдашней образной завершённости каждого такого холста. Этому немало способствует ощущение единства всего живописного пространства, достигаемое активностью точно угаданного для каждого букета, условно трактованного фона. Художник избегает в них форсированной цветности, напряжённого контраста с основным изображением. Природные формы не угашаются, а мягко акцентируются фонами. Отсюда сдержанное сияние красок практически во всех его букетах, мягкая пластическая лепка природных форм каждого цветка.
Алексею Коблову чужда любая аффектация или умилённая экзальтированность, он обладал хорошим чутьём на фальшь. Обострённую наблюдательность этот живописец сочетал с искренней взволнованностью увиденным. Коблов избегал своевольного преображения натурных впечатлений, полноту воссоздания их в своих картинах он органично сочетал со сбережённой свежестью чувства. В лучших его «Букетах» подкупает не только уровень профессиональной сделанности, раскованный артистизм, глубинная органичность выразительных средств, но также и душевная подлинность. Поэтому досужие разговоры о налёте салонности, который якобы ощутим в них, лишены серьёзных оснований. Едва ли не со времён Горация известно, что настоящая живопись – это поэзия. Именно подлинной поэтичностью красота отличается от подрумяненной и угодливой красивости салонных картинок.
Есть в коллекции Андрея Морозова и натюрморты совсем иного рода. К примеру «В сельском клубе» (1978): темноватый уголок помещения, где хранятся музыкальные инструменты. Или «Натюрморт с арбузом» (2004): ломти арбуза и дыни, грозди разных сортов винограда, яблоки, груши, бутылка вина и недопитое красное вино в бокале, букетик осенних листьев – словом характерный изобразительный набор заказушных работ для украшения ресторанов, столовых и чаен. Как и ещё один «Натюрморт» (2007) с умело, но несколько вяловато написанным набором бубликов, батонов и других хлебобулочных изделий, имеющий, возможно, такое же предназначение. Не исключено, что престарелый художник просто пытался попробовать поработать и на таком материале. Увы, в них нет ни той органики, ни той поэтичности, которая так подкупает в его бесчисленных «Букетах».
Особый разговор о немногих представленных в этом собрании кобловских портретах. Известно, что в худфондовские свои времена художник не только тиражировал сухой кистью стандартные лики меняющихся партийных руководителей или героев труда. Случались и более творческие задания: он создал портрет саратовского поэта Исая Тобольского, Юрия Гагарина, Нины Михайловны Чернышевской и ряда других. Довелось ему писать по заказу и многих учёных саратовского университета. Коблов отнёсся к этому заданию с большой ответственностью, судя по его воспоминаниям. Он брался писать их только с натуры, а по фотографиям писать наотрез отказался. Ибо ему хотелось глубже проникнуть в характер и повадку конкретного человека, не довольствуясь лишь внешним сходством. Даже портреты Карла Маркса и Сталина он пытался писать с так называемой «натуры», опираясь на позирование людей сходной с ними внешности, чтобы достичь и в этих портретных композициях ощущения большей жизненности.
Видимо, в середине 1950-х годов созданы им одухотворённые образы студента-армянина и задумчивой старшеклассницы, а также импульсивного и неуравновешенного молодого цыгана из собрания Андрея Морозова. Похоже этой же поры хранящийся у него пристальный и очень правдивый по характеристике портрет жены, на фоне просвеченной солнечным светом свежей листвы. Выразителен образ маленькой кореянки в красной одежде, чётко читающийся в контрастной по цвету среде обобщённо написанной зелени («Анюта», 2003). А сосредоточенный момент творческой работы в облике самого Алексея Коблова в его более позднем «Автопортрете» (1984) запечатлён таким, каким он запомнился во время непродолжительных наших встреч – напряжённо вслушивающимся и обдумывающим каждую фразу, сказанную собеседником.
Как и всюду у этого мастера, главная его задача – постигнуть важное, сутьевое в образе человека, цветка, пейзажного мотива. У живописца, для которого «каждый цветок – это портрет», которому важен индивидуальный «характер» этого цветка, который воспринимает и человека, как неотъемлемую часть природы, портретное изображение каждого просто немыслимо без стремления проникнуть в душевную жизнь модели. И немногие портреты из этой коллекции непреложно об этом свидетельствуют.
Успех у публики кобловских букетов отчасти заслонил ещё одну, на мой взгляд, важнейшую грань его дарования – пейзажную живопись. А между тем в ней его талант раскрылся не менее полно и, пожалуй, более многогранно. Непритязательность его подхода к выбору мотива сказывается в пейзажах не в меньшей мере, чем в иных жанра. У него и здесь нет особой избирательности мотива. Он писал то, что в данный момент его окружало. В них тоже нет стремления к нарочитой красивости. Многие из них написаны неподалёку от его дома на самой окраине Саратова. Но сколько поэзии находит живописец в невзрачных улочках и переулках ставшей ему пожизненным приютом Агафоновки!
Условно пейзажи Алексея Коблова, собранные Андреем Морозовым можно разделить на четыре группы: мотивы утопающего в растущих «живых» цветах дома художника или цветущего сада. Но это всё же пейзажи, а не растущие, выхваченные и ограниченные кадром цветы или фрукты – своего рода пленэрный натюрморт, встречающиеся у некоторых художников. Даже «помидоры на корню», которые однажды написал Коблов – тоже у него образ по преимуществу пейзажный.
Полотна с изображением Саратова или окрестных деревень различаются творческой задачей, которую в каждом конкретном случае ставил себе художник: это и быстрые натурные этюды, где правда неповторимого мгновения, эмоциональная наполненность таких, не столь уж эффектных мотивов, живописная непосредственность и сохранённая цельность первичного впечатления подкупают зрителя искренностью переживания. Художник, одарённый повышенной чувствительностью к изменчивым состояниям природы, особой тонкостью пейзажных ощущений, легко добивается тональной цельности, отчего звучание мотива кажется слегка приглушённым. Он пишет его не с холодным рассудком, но и не безрассудно. Достигнутая гармония чувственного и духовного близка в них той «спетости», которая так покоряет в лучших кобловских «Букетах».
Печатью непосредственно увиденного отмечены и его продуманно построенные пейзажные картины. Присущее им единство настроения, стремление передать тот ритм, которым пронизан мотив, подкупающая сдержанность интонаций – результат неспешного и вдумчивого созерцания, сосредоточенной углублённости, стремления передать не сиюминутное переживание, а постоянство неспешно выношенных эмоций. Он всегда ищет в таких полотнах основной тон, преобладающее чувство, стремясь овладеть образной сутью мотива. Мелодия туманного зимнего дня, сдержанное звучание распахнутых далей приволжского мотива, меланхолия зрелой осени, едва затеплившиеся краски ветвей ранней весной.
Коблов предпочитал простую размеренную жизнь, обыденный быт, невыисканную красоту окружающей природы. Его пейзажная лирика с оттенком некоторой идилличности, душевной ясности и просветлённого покоя многое говорит душе человека. Но, казалось бы, отрешённо-созерцательное начало его работ обманчиво: они дышат жизненной конкретностью, стремлением к полноте её выражения. Мягкий и призрачный свет, деликатный колорит, построенный на сочетаниях неярких, слегка пригашенных тонов, – это вовсе не случайная находка, не интуитивное озарение, переплавляющее, как было заповедано, «краски натуры в цвета переживаний».
Коблов действительно любил такие мотивы, предпочитая изменчивые состояния в природе, когда она богаче оттенками, переходами тонов, – позднюю осень с ранним снегом или самое начало весны со снегом, неторопливо сходящим. Писал он всегда только с натуры, упорно добиваясь желаемого результата. «Я старался закончить работу настолько, чтобы она о себе говорила то, что я хочу от неё услышать. От этого зависит время моё использованное. Некоторую работу, например, я работал над ней месяцы – и видел, что не передал в ней тонкости, и я её переписывал – через месяцы! Даже через несколько лет было, что я видел, что-то не успел сделать». (…) Работал я достаточно много, но не от того, что жаждал много заработать, а была жажда схватить природу, передать подлинную её красоту», - вспоминал художник. И это были вовсе не пустые слова: его отношение к родной природе всегда оставалось благодарным и трепетным.
Особую серию образуют ночные пейзажи Коблова. Он написал их уже в зрелые годы, когда мастерство его достаточно окрепло. По его словам, он «заинтересовался красотой ночного неба». Некоторые из них написаны в зимнюю пору, и мороз сильно осложнял его работу. Он вспоминал, что ночные пейзажи его очень увлекли, и он озаботился, чтобы всегда было освещение такое, как ему требовалось.
Он писал огни ночного Саратова с Агафоновской горы, парочку влюблённых у фонарного столба зимней порой, горящие окна собственного дома и проблески выходящей из-за облаков луны, родной посёлок новогодней ночью. Его занимал, как он рассказывал, эффект двойного освещения, панорамный пейзаж с видом на пристань, занесённые снегом улицы и дома Агафоновки, встречу знакомых на заснеженной ночной улице посёлка. Однажды он написал летний вечер в самом центре города – около кинотеатра «Победа», но более всего он любил места своего повседневно обитания. У него развилось острое чувство привязанности к ним, о чём он говорил неоднократно. Контраст ночного неба и электрического освещения заметно усиливал выразительность. Мрачноватая тональность этих полотен, драматизировала такие мотивы, заметно усиливала их экспрессию.
Пейзажи, написанные Кобловым на Урале, тоже созданы в русле характерной для него полнокровной и деликатной живописи. Они заметно отличаются от саратовских. Но вовсе не подходом к задаче и не методом её решения, а существенной разницей пейзажных мотивов. Характер уральской природы он изучал также пристально, как и волжской. Только она была совсем иной. Он писал её, не изменяя ни самим этим мотивам, ни своим приёмам письма, так же, как и в саратовских пейзажах, избегая неоправданных пластических деформаций, форсированного цвета: и сосновый бор, подсвеченный солнечными лучами, и спокойную гладь лесного озера, и бурлящую воду стремительных горных рек, и неоглядные уральские просторы, оставаясь самими собой, обретали под его рукой характерно кобловскую интонацию. Ибо и он вовсе не собирался менять выработанную стилистику, творчески осваивая иную природу этого сурового и прекрасного края.
Творчество Алексея Коблова – это искусство художника преимущественно чувственного темперамента без всяких досужих умствований, но вовсе не бездумное искусство. Голос его негромкий, но очень искренний и убеждающий. Живопись кобловскую отличает непритязательность, пригашенность тона. Пора бы рассмотреть его художественное наследие в достаточно полном объёме. Пора выяснить привычный ему круг профессионального общения в Саратове и его место в этом кругу.
Он сам обозначил его в своих воспоминаниях: Александр Рыбаков, Борис Трусковский, Григорий Харьков и Василий Фомичёв. Первых двоих я часто встречал в музее, как правило, в зале, где висели полотна В. Серова, К. Коровина, С. Жуковского, С. Виноградова и этюды Л. Туржанского и П. Петровичева. Это и были их творческие ориентиры. Василий Фомичёв – да кто ж его не знает? Алексей Коблов в беседах со мной почему-то не упоминал этого самого удачливого в этой группе, тоже ориентированного на московский импрессионизм Союза русских художников. И самый старший из них – Григорий Харьков, двигавшийся в симпатиях своих от СРХ почти к В.Э. Борисову-Мусатову.
Все они были интересными пейзажистами, и основные достижения их (включая Фомичёва!) были в натурных этюдах. Коблов же независимо от размеров холста чаще тяготел к картинному его решению. И все они, кроме весьма преуспевающего Фомичёва, были оттеснены на обочину. Мне показалось тогда, что Коблову довольно уютно там, а его воспоминания говорят о другом. Я бы добавил к ним ещё одного тонкого и культурного пейзажиста – Владимира Белоновича, тоже фронтовика, ушедшего, казалось бы, целиком в педагогическую деятельность. Алексей Коблов, старший среди них, пережил всех, и до последнего он работал. Стоит только увидеть крохотный шедевр «Цветы моего сада» (2003), чтобы оценить сохранность таланта 80-летнего живописца, раскованную маэстрию его письма.
Полагаю что вызрела тема исследования творческого наследия этой группы талантливых пейзажистов, рождённых в середине 1920-х годов, переживших в юности ужасы войны, идеологический пресс сталинщины и последующих десятилетий, оказавшихся вне туземного художественного мейнстрима, но сумевших развивать своё незаурядное живописное дарование, создать свою особую манеру письма, оставаясь традиционалистами в самом добром смысле этого слова. А главное в том, что они сумели избежать клишированности образов и приёмов, оставаясь неповторимыми творческими личностями. И центральной фигурой такой группы, безусловно, оказался бы Алексей Васильевич Коблов. Ибо «в искусстве важно не что и даже не как, а Кто?» (Н. Тырса). При всей своей скромности он был незаурядной личностью в трудное и опасное время. А это многого стоит.
И всё же что-то мешало Алексею Коблову оказаться в центре художественной жизни города, стать своим в довольно пёстрой среде саратовских живописцев. На мой взгляд, он оказался недооценен и профессиональным сообществом живописцев, и газетной критикой, и музейными специалистами. В коллекцию современного искусства Радищевского музея он попал уже посмертно: дочь художника передала его мужской портрет, один из его букетов и два характерных для этого живописца пейзажа. Едва ли не единственная публикация, персонально посвящённая специально талантливому мастеру,– это заметка Бориса Глубокова «Букеты Коблова» в газете «Земское обозрение» за 17 мая 2004 года.
В 1980-е – 1990-е годы мне довелось несколько раз беседовать с Алексеем Кобловым. Понравилось в его жизненной позиции то, что был он самодостаточен бытийно и творчески, при этом самокритичен и духовно трезв: абсолютно чужд искательства, не вхож в руководящие «круги» местного отделения Союза художников, совершенно лишён самомнения, нередко встречающегося среди творческих людей. Обострённое чувство собственного достоинства не переходило у него в кичливую гордыню, повышенную притязательность.
Такое складывалось впечатление, что он упорно добивался не только внешней независимости, но и внутренней свободы, а добившись, обрёл ощущение спокойного самоуважения и значимости своего труда. Я не ведал его жизни ранней поры, времени творческого становления – передо мной был достаточно зрелый, очень скромный человек с развитым чувством достоинства и художник со своим выстраданным и окончательно выработанным мироощущением, со своей давно уже установившейся живописной манерой, безусловно, обладающей запасом немалой художественной прочности.
Отход от «союзовских» разборок – это вынужденный акт человеческого и творческого самоопределения. Соблазн лёгкой и поверхностной работы как будто никогда не посещал его: претенциозное эффектничанье, щеголяние лихостью письма, новизной приёма всегда были чужды ему. Его творческую поэтику не так уж легко выразить словом или как-то чётко определить. Принципиальная традиционность, сохраняющая живую конкретность восприятия и передачи на плоскости холста реальных форм увиденного, корректируется в его холстах импульсивным и остро-взволнованным переживанием эмоционального состояния конкретного мотива, помогающим его образному самопроявлению.
Павел Кузнецов называл это стремлением «передать ощущение живого образа восприятия». Отсюда эта персональность интонаций в работах Коблова, делающая его вполне традиционное письмо неповторимым и легко узнаваемым. В собственном освоении традиции художник ищет и обретает свой путь, подтверждая старую истину, что оригинальность находят только тогда, когда её специально не выискивают. Это как раз то, что справедливо именуют «творческой силой традиции». Ибо подлинное искусство (вне зависимости от масштаба дарования мастера) рождается выявлением сущностного, а вовсе не стремлением кого-то поразить и тем привлечь к себе повышенный интерес. Идут года, и историческая дистанция даёт иную ауру восприятия, вносит свои коррективы в оценки оставленного каждым художником творческого наследия, заметно повышая акции скромных, но подлинных и честных мастеров, чьи полотна выдержали строгую проверку временем.
Интересно, что и в перестроечные годы не чувствовалось в нём никакой растерянности и боязливой подавленности, охватившей большинство его коллег, когда многие вынуждены были расстаться со своими устоявшимися принципами. Лишение государственного патроната искусству внесло отрезвляющие коррективы в оценки творческих достижений. Коблов же в контексте перестроечной эпохи чувствовал себя куда комфортнее, чем иные, казалось бы, более успешливые мастера совсем недавней поры. Уход от идеологического нажима он ощущал как благо: это никак не задевало глубинных мотиваций его творчества, всегда обращённого именно к отдельному человеку, а искусство пресловутого «кооперативного времени» этому вполне соответствовало.
Думается, что подходит пора существенной переоценки творчества талантливого и необычайно работоспособного живописца Алексея Васильевич Коблова. Его многочисленные «Букеты» рассеяны по частным собраниям, картинным галереям и квартирам любителей искусства не только Саратова и России, но и ряда зарубежных стран. Это значительно затрудняет такую задачу. Но существует достаточно большой массив отборных его полотен (более сотни работ разных жанров), находящийся в доме местного коллекционера Андрея Морозова, который не только бережно хранит эти полотна, но и сумел опубликовать подавляющее большинство из них в прекрасно изданном альбоме. Здесь же публикуются бесхитростные, очень искренние воспоминания художника «Моя жизнь» и краткое, точное и внятное послесловие искусствоведа Людмилы Пашковой с верной оценкой представленного в альбоме кобловского наследия.
Почин пересмотра места этого живописца в художественном процессе Саратова 1950-х – 2000-х годов как будто уже положен. Остаётся закрепить его представительной выставкой полотен мастера в залах Радищевского музея, откликами в местной прессе, на сайте музея, изданием серьёзного каталога, а возможно и показом такой выставки за пределами нашего города, публикациями информативного характера в столичной печати. Не мешало бы провести на выставке вечер памяти А.В. Коблова с привлечением местных художников, студентов Боголюбовского училища и широкого круга любителей искусства. Полагаю, что всё это в пределах возможностей при наличии совместных усилий коллекционера, Радищевского музея и других учреждений культуры Саратова.
Что же собой представляет коллекция полотен Алексея Коблова, собранная Андреем Морозовым? В основном это произведения от периода ранней зрелости художника с середины 1950-х годов и почти до конца его художнической карьеры: портреты, пейзажи, букеты цветов. И особой, бросающейся в глаза разницы в полотнах за полувековой период невозможно ощутить. Эволюция его стилистики была неспешной, почти незаметной. Ибо в самом методе построения образа художник достаточно стабилен. Его отличает завидная цельность творческого мышления. Это касается всех жанров его творчества, но особенно отчётливо проявилось в серии его полюбившихся зрителям «Букетов».
Если говорить о его «Букетах», то в целом это как бы некий единый глубинный мотив в бесконечном разнообразии конкретных его воплощений. И всегда это образ и обобщённый, и вполне конкретный, легко опознаваемый, что обеспечило ровный и достаточно высокий уровень всей этой обширнейшей серии. Привлекательно удивительное упорство, с которым на протяжении стольких лет он настойчиво шёл от реального мотива в его конкретной видимости к художественному образу, не навязывая ему при этом своё субъективное восприятие. Ибо не было у него никогда стремления к своевольному преображению натуры. В каждом из почти повторяющихся по своим излюбленным мотивам «Букетов» ощущение внутренней выношенности образа, его художественной полноценности. Удивительны свежесть воплощения их на плоскости холста и, вовсе не акцентированная, но вполне ощутимая персональность кобловской интонации, делающая его «Букеты» легко узнаваемыми.
Подкупает целомудренное отношение художника к самой форме и окраске любого цветка: «Натюрморт – это радость жизни. Поэтому цветы писать неправильно, плохо – нельзя. Они сами требуют, чтобы их написали красиво. Не красиво, в смысле ярко, а тонко, нежно. Они тоже имеют свой портрет, каждый – свой характер. Важно схватить его. Очень быстро. Цветы долго писать нельзя, они завянут, поэтому я их быстро схватываю. И получалось, конечно».
В этих словах самого живописца ощутимы не только поэтичность его художественного мышления, но и важность для него предметно-изобразительного начала, как и стремление передать общую цветовую мелодию, нечто сокровенное, таящееся в любом «Букете». Но цвет у него не ослабляет живописную пластику: он не только окрашивает конкретный цветок, но и родит пластическое строение любого из них, определяет значение всякого в пространстве букета, в его целостном живописном звучании. Отсюда пронизанный нежным свечением точный мазок, мягко лепящий каждый цветок, уверенно и точно передающий строение любого отдельного цветка, их структурную ритмику, нежное сияние цвета, его светоносность и характер его звучания в общей композиции «Букета».
Художник довольно точно определил свой метод работы: «Я из каждого цветка выжимал его суть, добывал – работал и переписывал, и добивался, чтоб он говорил о себе», вспоминал он. В этой красочной и пластической найденности каждого цветка, живущего своей особой потаённой жизнью, в умении схватить на лету её изменчиво-подвижное мгновение, как бы помогая самовыявлению природного естественного цвета его лепестков, передать их слитный цветовой аккорд в букете рождается неподдельное ощущение, что художник чувствует живую и трепетную форму их бытия. Ибо это не аналитически-отчуждённое его наблюдение за жизнью цветов, а как бы слияние с ними, не только упорным их изучением, но и эмоциональным вчувствованием. Отчего и воссоздание их на холсте получалось у него достоверно правдивым, а не педантически натурным. Он научился в едином творческом акте сочетать дотошную пристальность наблюдения с нескованной искренностью переживания.
Уроженец Саратова, замечательный живописец и педагог Алексей Карёв всегда требовал «согласовать чувство и знание» в любом произведении. Коблов не только выращивал замечательные цветы на собственном подворье, но и внимательно следил за их ростом и формированием. Соблюдая честную натурность, он (при всей своей пристальной и зоркой наблюдательности) всё-таки стремился в живописном воссоздании их не к буквальному сходству, а к образной точности, переводя на холсте натуру на язык достоверного и лирического восприятия разом, достигая этого в чувственно-конкретной и вполне осязаемой форме.
Вероятно такую раскованность, такую маэстрию письма он обрёл не сразу. Не довелось видеть самых ранних его «Букетов», но убеждён, что он изначально стремился к повышенной жизненности их воплощения. Этика профессии, воспринятая им, не позволяла иного, подхода. Знаю, как упорно и методично разрабатывал он эту серию мотивов, достаточно близких по творческой своей задаче, наращивая своё мастерство и обретая высокий профессионализм. Алексею Коблову присуща стилистическая стабильность, настойчивая выработка собственной живописно-пластической манеры. Но всё-таки многочисленные его букеты при внешней своей близости не производят впечатления отвердевшего навсегда приёма.
Высокий уровень живописного ремесла обеспечивал стабильную качественность такой стремительно нарастающей массы кобловских «Букетов». Справедливо заметил некогда В.А. Фаворский: «Бывает ремесло без искусства, но не бывает искусства без ремесла». Без нарастающего уверенного мастерства ему едва ли столь органично удавалось бы добиться в большинстве своих букетных композиций такой убеждающей передачи трепетности, словно бы неостановленного и перетекающего мгновения их пребывания в пространстве холста.
Его традиционность – абсолютно нескованная, свободная. Проявляется она и во всегдашней образной завершённости каждого такого холста. Этому немало способствует ощущение единства всего живописного пространства, достигаемое активностью точно угаданного для каждого букета, условно трактованного фона. Художник избегает в них форсированной цветности, напряжённого контраста с основным изображением. Природные формы не угашаются, а мягко акцентируются фонами. Отсюда сдержанное сияние красок практически во всех его букетах, мягкая пластическая лепка природных форм каждого цветка.
Алексею Коблову чужда любая аффектация или умилённая экзальтированность, он обладал хорошим чутьём на фальшь. Обострённую наблюдательность этот живописец сочетал с искренней взволнованностью увиденным. Коблов избегал своевольного преображения натурных впечатлений, полноту воссоздания их в своих картинах он органично сочетал со сбережённой свежестью чувства. В лучших его «Букетах» подкупает не только уровень профессиональной сделанности, раскованный артистизм, глубинная органичность выразительных средств, но также и душевная подлинность. Поэтому досужие разговоры о налёте салонности, который якобы ощутим в них, лишены серьёзных оснований. Едва ли не со времён Горация известно, что настоящая живопись – это поэзия. Именно подлинной поэтичностью красота отличается от подрумяненной и угодливой красивости салонных картинок.
Есть в коллекции Андрея Морозова и натюрморты совсем иного рода. К примеру «В сельском клубе» (1978): темноватый уголок помещения, где хранятся музыкальные инструменты. Или «Натюрморт с арбузом» (2004): ломти арбуза и дыни, грозди разных сортов винограда, яблоки, груши, бутылка вина и недопитое красное вино в бокале, букетик осенних листьев – словом характерный изобразительный набор заказушных работ для украшения ресторанов, столовых и чаен. Как и ещё один «Натюрморт» (2007) с умело, но несколько вяловато написанным набором бубликов, батонов и других хлебобулочных изделий, имеющий, возможно, такое же предназначение. Не исключено, что престарелый художник просто пытался попробовать поработать и на таком материале. Увы, в них нет ни той органики, ни той поэтичности, которая так подкупает в его бесчисленных «Букетах».
Особый разговор о немногих представленных в этом собрании кобловских портретах. Известно, что в худфондовские свои времена художник не только тиражировал сухой кистью стандартные лики меняющихся партийных руководителей или героев труда. Случались и более творческие задания: он создал портрет саратовского поэта Исая Тобольского, Юрия Гагарина, Нины Михайловны Чернышевской и ряда других. Довелось ему писать по заказу и многих учёных саратовского университета. Коблов отнёсся к этому заданию с большой ответственностью, судя по его воспоминаниям. Он брался писать их только с натуры, а по фотографиям писать наотрез отказался. Ибо ему хотелось глубже проникнуть в характер и повадку конкретного человека, не довольствуясь лишь внешним сходством. Даже портреты Карла Маркса и Сталина он пытался писать с так называемой «натуры», опираясь на позирование людей сходной с ними внешности, чтобы достичь и в этих портретных композициях ощущения большей жизненности.
Видимо, в середине 1950-х годов созданы им одухотворённые образы студента-армянина и задумчивой старшеклассницы, а также импульсивного и неуравновешенного молодого цыгана из собрания Андрея Морозова. Похоже этой же поры хранящийся у него пристальный и очень правдивый по характеристике портрет жены, на фоне просвеченной солнечным светом свежей листвы. Выразителен образ маленькой кореянки в красной одежде, чётко читающийся в контрастной по цвету среде обобщённо написанной зелени («Анюта», 2003). А сосредоточенный момент творческой работы в облике самого Алексея Коблова в его более позднем «Автопортрете» (1984) запечатлён таким, каким он запомнился во время непродолжительных наших встреч – напряжённо вслушивающимся и обдумывающим каждую фразу, сказанную собеседником.
Как и всюду у этого мастера, главная его задача – постигнуть важное, сутьевое в образе человека, цветка, пейзажного мотива. У живописца, для которого «каждый цветок – это портрет», которому важен индивидуальный «характер» этого цветка, который воспринимает и человека, как неотъемлемую часть природы, портретное изображение каждого просто немыслимо без стремления проникнуть в душевную жизнь модели. И немногие портреты из этой коллекции непреложно об этом свидетельствуют.
Успех у публики кобловских букетов отчасти заслонил ещё одну, на мой взгляд, важнейшую грань его дарования – пейзажную живопись. А между тем в ней его талант раскрылся не менее полно и, пожалуй, более многогранно. Непритязательность его подхода к выбору мотива сказывается в пейзажах не в меньшей мере, чем в иных жанра. У него и здесь нет особой избирательности мотива. Он писал то, что в данный момент его окружало. В них тоже нет стремления к нарочитой красивости. Многие из них написаны неподалёку от его дома на самой окраине Саратова. Но сколько поэзии находит живописец в невзрачных улочках и переулках ставшей ему пожизненным приютом Агафоновки!
Условно пейзажи Алексея Коблова, собранные Андреем Морозовым можно разделить на четыре группы: мотивы утопающего в растущих «живых» цветах дома художника или цветущего сада. Но это всё же пейзажи, а не растущие, выхваченные и ограниченные кадром цветы или фрукты – своего рода пленэрный натюрморт, встречающиеся у некоторых художников. Даже «помидоры на корню», которые однажды написал Коблов – тоже у него образ по преимуществу пейзажный.
Полотна с изображением Саратова или окрестных деревень различаются творческой задачей, которую в каждом конкретном случае ставил себе художник: это и быстрые натурные этюды, где правда неповторимого мгновения, эмоциональная наполненность таких, не столь уж эффектных мотивов, живописная непосредственность и сохранённая цельность первичного впечатления подкупают зрителя искренностью переживания. Художник, одарённый повышенной чувствительностью к изменчивым состояниям природы, особой тонкостью пейзажных ощущений, легко добивается тональной цельности, отчего звучание мотива кажется слегка приглушённым. Он пишет его не с холодным рассудком, но и не безрассудно. Достигнутая гармония чувственного и духовного близка в них той «спетости», которая так покоряет в лучших кобловских «Букетах».
Печатью непосредственно увиденного отмечены и его продуманно построенные пейзажные картины. Присущее им единство настроения, стремление передать тот ритм, которым пронизан мотив, подкупающая сдержанность интонаций – результат неспешного и вдумчивого созерцания, сосредоточенной углублённости, стремления передать не сиюминутное переживание, а постоянство неспешно выношенных эмоций. Он всегда ищет в таких полотнах основной тон, преобладающее чувство, стремясь овладеть образной сутью мотива. Мелодия туманного зимнего дня, сдержанное звучание распахнутых далей приволжского мотива, меланхолия зрелой осени, едва затеплившиеся краски ветвей ранней весной.
Коблов предпочитал простую размеренную жизнь, обыденный быт, невыисканную красоту окружающей природы. Его пейзажная лирика с оттенком некоторой идилличности, душевной ясности и просветлённого покоя многое говорит душе человека. Но, казалось бы, отрешённо-созерцательное начало его работ обманчиво: они дышат жизненной конкретностью, стремлением к полноте её выражения. Мягкий и призрачный свет, деликатный колорит, построенный на сочетаниях неярких, слегка пригашенных тонов, – это вовсе не случайная находка, не интуитивное озарение, переплавляющее, как было заповедано, «краски натуры в цвета переживаний».
Коблов действительно любил такие мотивы, предпочитая изменчивые состояния в природе, когда она богаче оттенками, переходами тонов, – позднюю осень с ранним снегом или самое начало весны со снегом, неторопливо сходящим. Писал он всегда только с натуры, упорно добиваясь желаемого результата. «Я старался закончить работу настолько, чтобы она о себе говорила то, что я хочу от неё услышать. От этого зависит время моё использованное. Некоторую работу, например, я работал над ней месяцы – и видел, что не передал в ней тонкости, и я её переписывал – через месяцы! Даже через несколько лет было, что я видел, что-то не успел сделать». (…) Работал я достаточно много, но не от того, что жаждал много заработать, а была жажда схватить природу, передать подлинную её красоту», - вспоминал художник. И это были вовсе не пустые слова: его отношение к родной природе всегда оставалось благодарным и трепетным.
Особую серию образуют ночные пейзажи Коблова. Он написал их уже в зрелые годы, когда мастерство его достаточно окрепло. По его словам, он «заинтересовался красотой ночного неба». Некоторые из них написаны в зимнюю пору, и мороз сильно осложнял его работу. Он вспоминал, что ночные пейзажи его очень увлекли, и он озаботился, чтобы всегда было освещение такое, как ему требовалось.
Он писал огни ночного Саратова с Агафоновской горы, парочку влюблённых у фонарного столба зимней порой, горящие окна собственного дома и проблески выходящей из-за облаков луны, родной посёлок новогодней ночью. Его занимал, как он рассказывал, эффект двойного освещения, панорамный пейзаж с видом на пристань, занесённые снегом улицы и дома Агафоновки, встречу знакомых на заснеженной ночной улице посёлка. Однажды он написал летний вечер в самом центре города – около кинотеатра «Победа», но более всего он любил места своего повседневно обитания. У него развилось острое чувство привязанности к ним, о чём он говорил неоднократно. Контраст ночного неба и электрического освещения заметно усиливал выразительность. Мрачноватая тональность этих полотен, драматизировала такие мотивы, заметно усиливала их экспрессию.
Пейзажи, написанные Кобловым на Урале, тоже созданы в русле характерной для него полнокровной и деликатной живописи. Они заметно отличаются от саратовских. Но вовсе не подходом к задаче и не методом её решения, а существенной разницей пейзажных мотивов. Характер уральской природы он изучал также пристально, как и волжской. Только она была совсем иной. Он писал её, не изменяя ни самим этим мотивам, ни своим приёмам письма, так же, как и в саратовских пейзажах, избегая неоправданных пластических деформаций, форсированного цвета: и сосновый бор, подсвеченный солнечными лучами, и спокойную гладь лесного озера, и бурлящую воду стремительных горных рек, и неоглядные уральские просторы, оставаясь самими собой, обретали под его рукой характерно кобловскую интонацию. Ибо и он вовсе не собирался менять выработанную стилистику, творчески осваивая иную природу этого сурового и прекрасного края.
Творчество Алексея Коблова – это искусство художника преимущественно чувственного темперамента без всяких досужих умствований, но вовсе не бездумное искусство. Голос его негромкий, но очень искренний и убеждающий. Живопись кобловскую отличает непритязательность, пригашенность тона. Пора бы рассмотреть его художественное наследие в достаточно полном объёме. Пора выяснить привычный ему круг профессионального общения в Саратове и его место в этом кругу.
Он сам обозначил его в своих воспоминаниях: Александр Рыбаков, Борис Трусковский, Григорий Харьков и Василий Фомичёв. Первых двоих я часто встречал в музее, как правило, в зале, где висели полотна В. Серова, К. Коровина, С. Жуковского, С. Виноградова и этюды Л. Туржанского и П. Петровичева. Это и были их творческие ориентиры. Василий Фомичёв – да кто ж его не знает? Алексей Коблов в беседах со мной почему-то не упоминал этого самого удачливого в этой группе, тоже ориентированного на московский импрессионизм Союза русских художников. И самый старший из них – Григорий Харьков, двигавшийся в симпатиях своих от СРХ почти к В.Э. Борисову-Мусатову.
Все они были интересными пейзажистами, и основные достижения их (включая Фомичёва!) были в натурных этюдах. Коблов же независимо от размеров холста чаще тяготел к картинному его решению. И все они, кроме весьма преуспевающего Фомичёва, были оттеснены на обочину. Мне показалось тогда, что Коблову довольно уютно там, а его воспоминания говорят о другом. Я бы добавил к ним ещё одного тонкого и культурного пейзажиста – Владимира Белоновича, тоже фронтовика, ушедшего, казалось бы, целиком в педагогическую деятельность. Алексей Коблов, старший среди них, пережил всех, и до последнего он работал. Стоит только увидеть крохотный шедевр «Цветы моего сада» (2003), чтобы оценить сохранность таланта 80-летнего живописца, раскованную маэстрию его письма.
Полагаю что вызрела тема исследования творческого наследия этой группы талантливых пейзажистов, рождённых в середине 1920-х годов, переживших в юности ужасы войны, идеологический пресс сталинщины и последующих десятилетий, оказавшихся вне туземного художественного мейнстрима, но сумевших развивать своё незаурядное живописное дарование, создать свою особую манеру письма, оставаясь традиционалистами в самом добром смысле этого слова. А главное в том, что они сумели избежать клишированности образов и приёмов, оставаясь неповторимыми творческими личностями. И центральной фигурой такой группы, безусловно, оказался бы Алексей Васильевич Коблов. Ибо «в искусстве важно не что и даже не как, а Кто?» (Н. Тырса). При всей своей скромности он был незаурядной личностью в трудное и опасное время. А это многого стоит.
Ефим Водонос
Январь 2017
Саратов
Январь 2017
Саратов
Книга
АК 21 — к 88-летию со дня рождения А.В. Коблова