Много алмазных искр Пушкина рассыпано тут и там в потёмках; иные уже угасли, и едва ли не навсегда.
«А.С. Пушкин. Семь нот»
Выставка графики 1936-1937 годов Валентина Юстицкого, созданной к 100-летию смерти Пушкина
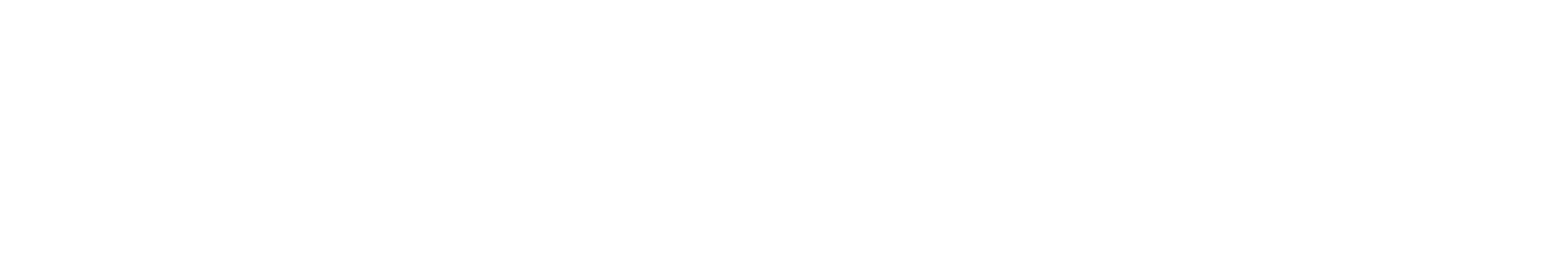
Юстицкий Валентин Михайлович (1894-1951). 7 нот из серии «Пушкиниана».1937г. 13,2х70,2. Бумага, тушь, перо, акварель, графитный карандаш. Коллекция Морозова
Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.
-Валентин Юстицкий этой уникальной серией графики 1936-1937 годов, которая показывается впервые большой аудитории, добавляет и развивает сказанное Пастернаком. Возле номера каждого листа в скобках стоит номер страницы моей электронной книги «3,7, Пушкинъ», опубликованной здесь-же, на сайте. Зайдя в книгу на номер страницы, можно прочесть строки Пушкина или о нём, подобранные мной к данному листу. Мечтаю о том, что когда-нибудь будет издана печатная книга о Пушкине с данной серией графики.
Если после просмотра данной графики Вас заинтересует информация об этом художнике, то её можно почерпнуть из книги «Художник Валентин Юстицкий», изданной в 2009 году Саратовским государственным художественным музеем имени Радищева. Кроме того, Валентин Юстицкий представлен и в Энциклопедии Русского Авангарда. Хочу лишь отметить, что в марте 1937 года Юстицкий был арестован и осужден на 10 лет строгого режима за антисоветскую агитацию. Выйдя из лагеря, после отбытия всего срока заключения, он вскоре скончался.
Если после просмотра данной графики Вас заинтересует информация об этом художнике, то её можно почерпнуть из книги «Художник Валентин Юстицкий», изданной в 2009 году Саратовским государственным художественным музеем имени Радищева. Кроме того, Валентин Юстицкий представлен и в Энциклопедии Русского Авангарда. Хочу лишь отметить, что в марте 1937 года Юстицкий был арестован и осужден на 10 лет строгого режима за антисоветскую агитацию. Выйдя из лагеря, после отбытия всего срока заключения, он вскоре скончался.
Е.И. Водонос
ВАЛЕНТИН ЮСТИЦКИЙ И ЕГО ПУШКИНИАНА В КОЛЛЕКЦИИ
МОРОЗОВА
МОРОЗОВА
К 123-летию со дня рождения художника
Думаешь, думаешь, и надежда зашевелится в душе… А то иной раз просто начнешь считать: раз, два, три и т.д., ...
Тут есть какой-то закон. Работай больше и, главное, для себя, не губи своих недюжинных способностей, помни, что настоящих художников единицы и что маленький рисунок или ещё что-либо могут и будут жить столетия, в то время как огромные полотна станут никому не нужными. Значит, всё не в количестве, а в особом качестве вещи, в её выношенности, в диапазоне автора, в его огромном внутреннем существе, горении.
Немало талантливых и ярких художников, оставивших сколько-нибудь заметный след в искусстве своего времени, становятся легендой после долгого забвения по обстоятельствам эпохи их сохранившегося и представляющего несомненный интерес творческого наследия.
Спустя десятилетия, постепенно проясняется существо их художественных исканий, появляется взвешенная оценка реально ими сделанного на основе сбережённой части их полотен и графических листов, рассеянных по музеям и частным собраниям родной земли, а то и ряда зарубежных стран. Уточняются биографические сведения, характер художнической эволюции, её причина, последовательность этапов их творчества.
К числу таких мастеров принадлежит и Валентин Михайлович Юстицкий (1894-1951). Его зрелое творчество связано в основном с пребыванием с 1918 по 1935, и с 1946 по 1950 в Саратове, где он преподавал, активно участвовал на городских выставках, занимался декоративно-монументальным искусством, азартно теоретизировал, участвуя в жарких диспутах рубежа 1910-1920-х годов, словом, был едва ли не самым активным участником местного художественного процесса, бродильным и будоражащим его началом.
Это было отмечено в хлёсткой левацкой прокламации, написанной представителем поколения его учеников: «Юстицкий, Поляков, Давид Загоскин, Красовский – это дрожжи, которыми время заквасит материальное искусства в будущем. Они и сотни им подобных – материал для Будущего, и они не хотят оглядываться назад», писал ещё в 1922 году совсем юный тогда Алексей Кротков, поставивший Юстицкого на первое место в когорте отмеченных им обновителей саратовского изобразительного творчества.
Мы всё ещё не обладаем в достаточной полноте «золотой валютой фактов» (Осип Мандельштам) обо всех этапах его прерывистого творческого пути, его интересах и увлечениях на каждом из них, его окружении и реальными обстоятельствами повседневного быта.
Однако в последние десятилетия постепенно высветляется и та доля его художественного наследия, которая создана мастером за пределами Саратова, – частью как упоминания о его полотнах дореволюционной поры (в сохранившихся письмах, воспоминаниях, каталогах и откликах прессы), а частью в обнаружившихся работах его московской – 1935-1937 годов – и затянувшейся на десятилетие лагерной поры его жизни. Это были почти пропущенные исследователями периоды его внутреннего изменения.
Они существенно различаются между собой – прежде всего, своей эмоциональной окрашенностью. Но есть нечто невытравимо «юстицкое» в его живописи и графике различных периодов, как и в жизненном поведении в разные годы.
Но все внешние перипетии его жизни, как и послужной список, перечисление выставок, на коих он экспонировал свои работы, ещё не открывают его душу, его представления о сущности творчества, его отношения с ближним окружением и с эпохой, не позволяют понять своеобразие его творческой личности. Это скорее раскрывается, хотя и опосредованно, прежде всего, в самом его искусстве.
Бывают художники, сравнительно быстро нашедшие свою тему и свою особую творческую манеру. Сформировав персональную неповторимую стилистику, они развивают и обогащают её, не сворачивая с избранного пути на иные дороги.
Валентин Юстицкий не был однолюбом ни в жизни, ни в творчестве. На каждом отрезке художественной деятельности этого переимчивого мастера его отличала повышенная способность впитывать и преображать разнообразные стилистические тенденции своей эпохи, необычайно богатой противоборствующими исканиями, создавая на их основе собственную свою неповторимую стилистику.
Постичь причину его персональной интонации – такой разной в различные периоды его жизни и вместе с тем, безусловно, единой, присущей только ему одному, – задача совсем не из простых. Суть именно его творческой личности угадать в протеизме Юстицкого довольно трудно. Его не втиснешь ни в какую «обойму» – уж слишком он был субъективен и склонен к перемене стилистики, а стало быть, и обойм.
Бесконечные творческие перевоплощения этого принципиального противника любых форм эстетического консерватизма в кратких пределах только полутора десятилетий (1918-1932), и совсем другие картины рубежа 1940-50-х годов с их прихотливым затейливым артистизмом, а иные из них («Парки», «Дон-Кихот») с налётом символико-гротесковой образности, воспринимались абсолютно несвязанными между собой.
Ибо пропущенным оказалось важное для понимания его творческой эволюции десятилетие с середины 1930-х до середины 1940-х годов, нам неведомое и всплывшее отчасти не ранее начала 1970-х, когда вновь пробудился, заметно с годами усиливаясь, интерес к художественному наследию этого многообразно одарённого и необычайно активного мастера. Удивительно, как в творческом сознании одного талантливого живописца и графика умещались столь разнородные, казалось бы, несовместимые стилистические традиции.
Иные полагали, что полотна Юстицкого второй половины 1940-х созданы под влиянием художника-репатрианта Николая Михайловича Гущина (1888-1965), с которым он, вероятно, был знаком ещё в дореволюционную пору, а на рубеже 1940-1950-х они жили в Саратове на разных этажах одного дома на улице Гоголя и постоянно общались.
Мне тоже поначалу это представлялось самоочевидным. Но когда я привёз в музей из Москвы две его небольшие картины, написанные им на фанере от посылочных ящиков в концлагере, стало понятным, что перемена в его стилистике началась задолго до саратовской встречи с Гущиным уже в 1947 году.
Живописцы это разные, и произвольное их сближение объясняется только тем, что оба они были контрастны саратовской живописи той поры – и характером мотивов, и манерой исполнения, далёкой от господствующей тогда стилистики. Но по мироощущению своему Юстицкий и Гущин скорее полярны.
Существенно разнятся они и своей образной системой, и самим характером живописи, отношением к цвету, кладкой мазка, фактурой. Каждый из них шёл своим путём, обретая право на столь субъективную оптику.
Лагерные картины подарила Радищевскому музею ученица и верная подруга художника Гали Алексеевна Анисимова, жившая с ним в короткий московский период его творчества. Она же передала мне тетрадь с выписками из его лагерных писем, теперь уже не единожды опубликованных, где тоже проскальзывают его раздумья об искусстве, существенно отличающиеся от его записей начала 20-х годов.
Анисимова рассказывала, что в связи с его попытками выступить иллюстратором произведений французских писателей – Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Марселя Пруста, а также бельгийца Мориса Метерлинка – Валентин Михайлович серьёзно интересовался старой и новой французской философией и литературой.
И Мишель Монтень, и Блез Паскаль, и Рене Декарт, и Вольтер с Дени Дидро и Жан-Жаком Руссо, а из новых – Анри Бергсон были интересны и нужны ему в ту пору. А из писателей и поэтов его более других привлекали Франсуа Рабле, Оноре де Бальзак, Анри Стендаль, Ги де Мопассан, Анатоль Франс, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Гийом Аполлинер.
В искусстве изобразительном ему стали близки и мастера 18-19 веков, а не преимущественно живописцы, графики и скульпторы авангардные, как в 1910-1920-е годы. Он увлёкся Антуаном Ватто, Никола Ланкре, Жаном Фрагонаром, Франсуа Буше, Эженом Делакруа, Теодором Жерико, Камилем Коро, Жаном Милле, Гюставом Курбе, Шарлем Добиньи, а не только импрессионистами, фовистами, кубистами, экспрессионистами, как прежде.
Особенно он интересовался «праздниками» Адольфа Монтичелли, «скачками» Эдгара Дега, разыскивал рисунки Константина Гиса, которого знал по Радищевскому музею. Его вообще потянуло к классике, очень своеобразно осмысляемой им. Он часто и много говорил с ней и о великих старых мастерах ренессансной Италии.
Так запомнилось его ученице. А вот Владимир Алексеевич Милашевский рассказывал в самом начале 1970-х годов о горячем увлечении Юстицкого этой поры мастерами Парижской школы, особенно живописью Хаима Сутина.
На моё замечание о том, что само понятие «Парижская школа» и во Франции-то обозначилось не ранее середины 1920-х годов, а полотен Сутина и вовсе не было на московской выставке русских парижан в 1928 году, он насмешливо ответил, что они тогда (на рубеже двадцатых-тридцатых) знали о современном зарубежном искусстве куда больше, чем мы сейчас о нынешнем. А судьбами русских художников в Германии, Франции и даже Америке интересовались особенно. И живые контакты с ними, по его словам, в ту пору ещё сохранялись.
Вообще же представить себе мироощущение Валентина Юстицкого того периода довольно трудно за отсутствием вполне достоверных свидетельств, а только при смутных биографических сведениях его ранней поры.
Постепенно уточняются усилиями разных исследователей и факты реальной его биографии, начиная с документально зафиксированной даты рождения, и годы недолгой учёбы, как в России, так и в Париже, и меняющееся семейное положение. Развеиваются или ставятся под сомнение не подтверждённые ничем легенды. Уточняются его перемещения начала 1910-х и послужной список в Саратове с 1918-года.
Любопытно, что у Юстицкого никогда не было по-настоящему серьёзного наставника в искусстве, не было Учителя в высоком и по-настоящему творческом значении этого слова. Он мог бы повторить за Владимиром Милашевским: «Мы развивались без учителей, нас учил воздух эпохи». Быть может, отсюда столь частая смена стилевых ориентиров, характерная в целом для русского художества той поры.
Но можно предположить и совсем иную причину: импульсивный склад натуры художника, склонной к переменчивости горячих увлечений, постоянному поиску и апробированию всё новых и новых путей в искусстве. Такие художники встречались во все времена и в разных странах, но первая половина 20-го столетия в России оказалась для появления их очень уж благоприятной.
Раннее знакомство Юстицкого с относительно «левым» художеством в виленский период его жизни на рубеже 1900-1910-х годов имеет, увы, только предположительный характер. Но исключать его полностью, конечно же, нельзя. Ибо вероятность подобного непосредственного влияния на пробуждение интереса будущего художника к новейшим исканиям той поры всё-таки довольно велика.
Открытый всему новому, любознательный и увлечённый юноша едва ли мог пройти мимо тех, нарушавших школярские каноны исканий, которые были на этих экспозициях представлены. Но всё это, к сожалению, остаётся пока в сфере недостаточно аргументированных догадок. И будут ли они когда-нибудь подтверждены – тоже, увы, весьма гадательно. Предположительны и сроки пребывания молодого художника в Париже–1912-1913 годы, и характер его учебных занятий там.
Вернувшись в Вильно, Юстицкий женился. Затем он переехал к родственникам в Петроград, а в начале 1916 года перебрался в Москву, где и родилась его первая дочь.
К моменту своего появления в 1918-м году в Саратове за плечами Валентина Юстицкого было участие на разношёрстных по своему составу выставках Московского товарищества художников и салона «Единорог», выставке художников-фантастов и футуристической выставке «Магазин», организованной Владимиром Татлиным.
Последняя экспозиция ознаменовалась решительным разрывом организатора выставки с супрематическими поползновениями Казимира Малевича, забравшего со скандалом с выставки свои полотна. С ним ушёл и верный ему Иван Клюн. Пустующие в экспозиции места были заполнены остальными участниками выставки.
Быть может, с этим и связаны предположения, что дошедшие до нас театрализованные акварели из серии «костюмы и маски» и примитивистские гуаши из серии, тоже условно обозначенной как «Рыбаки», экспонировались на этой выставке. Каталог этого не подтверждает: Юстицкий представлен там только одним портретом художника Крастина.
Но, быть может, он был издан к вернисажу, а последующие изменения экспозиции зафиксированы не были. Этикетка же «футуристическая» достаточно условна для тогдашних левых выставок: обычно она объединяла различные по своим творческим устремлениям течения отечественного изобразительного авангарда той поры.
В самом начале 1917 года Юстицкий с семьёй перебирается в Кострому, где была поддержка родных его супруги. Там он стал деятельным участником «Северного общества художников». Местная пресса уделяла внимание не только его произведениям и общественной деятельности (работа в Совете костромского художественного общества, созданного в 1917 году, в комиссии по созданию плакатов «Займа свободы» после Февральской революции), но также его активному участию в развлекательных «Вечерах контрастов».
В костромской газете «Поволжский вестник» 28 февраля можно было прочесть забавный анонс: «Сольные выступления. Небывалая программа. Новотаризм поэтерик выявляет Валентин Юстицкий».
«Начало деятельности левых художников в Костроме связано с приездом из Москвы в январе 1917 года В.М. Юстицкого, участника выставок «Магазин» (Москва, 19 марта–20 апреля), художников-фантастов (Москва, 1916), Московского товарищества художников (Москва, 2 февраля – март 1916). Если на фоне московских левых художников (выставка «Магазин») картины Юстицкого не выделялись критиками, то на фоне спокойной костромской художественной жизни Юстицкий предстал бунтарём», – сообщает один из местных газетных обозревателей. А несколько месяцев спустя, 9 мая 1917 года в той же газете другой автор недоумевает, «почему так упорно продолжают называть его футуристом»?
«Быть может, как «выявитель новатаризма в поэтерике» он и футурист. Но как художник, имеющий дело с красками, он ничего общего с этим течением в искусстве не имеет», – резюмирует он. И, перечисляя ряд выставленных этим мастером полотен, иронически добавляет: «Все они далеко не однородны и, на первый взгляд, можно подумать, что принадлежат разным авторам». Запомним это весьма проницательное замечание газетного обозревателя, относящееся к раннему периоду творчества Юстицкого.
Интересно, что среди экспонентов одной из костромских выставок, наряду с Юстицким, был и Михаил Ксенофонтович Соколов (1885-1947). Его импровизационная графика 1920-х – начала 1930-х годов даёт серьёзные основания для плодотворных сопоставлений с графикой Юстицкого. К этому ещё предстоит непременно вернуться.
Да и сама судьба этих очень неординарных художников, репрессированных в середине 1930-х годов, освобождённых в середине 1940-х, но так и не доживших до своей реабилитации, во многом схожа. В их общем жизнеощущении было немало общего, однако по своему восприятию жизни, по темпераменту, как и основными чертами характера, они весьма различались между собой.
Если у газетных обозревателей Костромы были ещё основания сомневаться в принадлежности Юстицкого широко понимаемому футуризму, то в Саратове с первых же его шагов он воспринимался как представитель самого крайнего левого направления. Кипучая деятельность Юстицкого 1920-х годов, участие в многочисленных диспутах, стремление всюду заявить о себе, изрядная доля эпатажа, игровой раскованности создавали впечатление известной эстетической всеядности.
Восприимчивый ко всякого рода художественным веяниям, пробуя себя на самых различных путях, не имея постоянного ориентира, он никогда не обладал непреклонным упорством художников-первопроходцев или постоянством преданных им учеников, навсегда заворожённых творческими принципами своих фанатичных наставников.
Мощь односторонности Юстицкому была чужда. Он интересен противоположным: за какие-то полтора десятилетия художник успел побывать и неопримитивистом, и футуристом, и презентистом, и ахрровцем, и остовцем, и почти голуборозовцем на выставках «4 искусства», и рисовальщиком-виртуозом из группы «13».
Сейчас нелегко объяснить эту всеотзывчивость талантливого живописца и графика, парадоксальность его блистательного эклектизма. Очевидна явная недостаточность изучения наследия Юстицкого только на уровне выразительных средств и технических приёмов: это не даст разгадки его столь частых стилистических пируэтов. Необходимо понимание личности художника, вся жизнь которого была безостановочным поиском, а также специфических условий его творческого бытия в провинциальном городе.
С одной стороны, его стремление прорваться на престижные столичные выставки, ни одна из которых никогда не была для него по-настоящему «своей». С другой – особый склад натуры Юстицкого: постоянная готовность к усвоению отовсюду идущих импульсов, гибкость реакций на меняющиеся обстоятельства, отсутствие фанатизма, как в дурном, так и в высоком значении этого слова, смолоду присущая ему неодолимая тяга к непрестанному иронически-игровому самообновлению.
Человек он был горячий, искромётный, увлекающийся многим, чуждый стремлению создавать каноны жёсткой законченной системы, способный едва ли не одновременно обращаться к различным стилистическим течениям, чем и объясняется разбросанность его исканий. А художник – творчески очень мобильный, раскованный, абсолютно свободный в выборе стилистики, легко меняющий манеру, не скованный заученными приёмами.
Он переимчиво вникал в особенности самых различных стилевых систем, субъективно переиначивая их на свой лад, достигая иного образно-семантического единства и персональной тональности. По существу его отзывчивого творчества Юстицкого не назовёшь стойким последователем ни одного из тогдашних художественных течений.
К нему вполне приложимы отдельные тезисы из доклада А.В. Бакушинского в 1929 году в ГАХНе (Государственной Академии художественных наук), посвящённого искусству М.К. Соколова: «Повороты его пути очень резки, но органичны. Его увлечения влияниями – многочисленны и в своей последовательности, и в одновременности. Что, этот широкий круг воздействий стирает индивидуальность? Нет».
Индивидуальность Юстицкого бросалась в глаза всем: «Это был живой, талантливый, темпераментный художник. Быстрый в своём творчестве, излишне самолюбивый, он всегда гнался за чем-нибудь новым. Отсюда и дефекты: отсутствие глубины, подражательность, неоправданные вольт-фасы. Работы его, часто дискуссионные, всегда смотрелись с большим интересом и, наряду с дарованием, он обладал большим художественным вкусом. Я встретился с ним после Октябрьской революции и испытал на себе некоторое его влияние. Правда, отталкивался от него в противоположную сторону, но я и сейчас помню несколько его очень красивых пейзажей», – таким запомнился Юстицкий осмотрительному и неспешному художнику Борису Александровичу Зенкевичу.
Начинал он в Саратове, конечно же, не с красивых пейзажей. Едва ли не самой ранней из сохранившихся его саратовских работ оказался тонированный гипс «Голова киргиза» (1919), напоминающий о том, что он брал уроки скульптуры в Париже.
Выразительный его облик в примитивистской трактовке образа как бы продолжает его гуаши из серии «Рыбаки» (1916), где он отдал дань нарочитой примитивистской архаике. Гротесковая выразительность их огрублённых, исполненных мощи идолообразных и массивных фигур впечатляет. Особенно, кряжистая, мастодонтообразная торговка рыбой.
В этом же 1919 году он взялся за масштабные монументальные росписи в клубе Пролеткульта. Тема их – героика труда, пафос революции. Ему помогали студийцы. Одна из его учениц – Муза Александровна Троицкая (Егорова) – так вспоминает об этом: «Работа была выполнена в короткий срок в смелой, уверенной манере Юстицкого. Декоративная обобщённость, динамичность, острый рисунок характеризовали манеру Юстицкого, да и были присущи общему направлению искусства тех дней. (…) Смелость, уверенность руки Юстицкого, оригинальность композиционного решения восхищали меня, волшебная быстрота и безошибочность кисти запомнились мне на всю жизнь».
По сохранившемуся в музейном архиве любительскому фотоснимку отчётной выставки мастерской В.М. Юстицкого, проходившей с 11 по 18 мая 1921 года в художественно-практическом институте, можно судить об общей направленности его искусства этой поры: поиски законов формообразования, выявление первичных значимых элементов формы, проблемы статики и динамики, забота о самой материи живописи, отвлечённой от своего предметного носителя, лишённой какой бы то ни было изобразительной темы, построенной на экспрессии самих живописных цветофактур, которые и становились «сюжетом» этих неизобразительных работ. Шёл тренаж в освоении выразительных возможностей материала.
Тогдашние эстетические его тяготения явно ближе к В.Е. Татлину, нежели к К.С. Малевичу. Но, вероятно, именно в это время Юстицкий, стремившийся выявить самое существо живописи как таковой, мечтавший о самодовлеющей живописности, записывал в тезисах к одному из своих выступлений: «Шедевром всё же будет покрытие плоскости тоном настолько живописным, что не понадобится ни литература, ни психология, ни объёмы и формы. Такой иногда уже Матисс; несмотря на свою легкомысленность, в живописи понимает лучше других – к чему надо вести живопись».
Юстицкий, всегда стремящийся к непрерывному обновлению, никогда не был склонен канонизировать какую бы то ни было живописную систему. «Писать и прятать, и не видеть своих вещей при письме новой – вот верный приём; при нём нет давления из старых изжитых вещей, и, по крайней мере, не рискуешь повторяться; быть последовательным – вопрос иной». А вослед шёл, казалось бы, совершенно неожиданный для перманентного новатора вывод: «Настоящее новое искусство – непременный продукт вполне понятой и пережитой прежней культуры, без этого – всё крик неврастеника, а их так много».
Это вовсе не означало, что художник напрочь открестился от исканий современного искусства, напротив, он был уверен, что обращение к традиции только укрепляет их: «Материальное искусство – вот девиз дня – ближе к возрождению через станок – к живописи, через опыт – к плоскости». Теоретические рассуждения Юстицкого не мешали его собственной творческой практике, никогда не обуздывали её.
Традиционное и новаторское постоянно сопрягаются в его текстах: «Сезанновский объём живописен – в этом его ценность. Тициан и Сезанн – два полюса одного и того же начинания», – отмечал он в своих черновых набросках к выступлению. В его творческом сознании сближаются достижения великих мастеров с живописными исканиями текущего дня.
«Хочется думать живописью, как думали ясно не одними образами, а красками, то есть через тон. Воздействие красок велико, в Ренессансе была гармония, почему же тогда анализ играл большую роль, чем теперь? Картину можно узнать по поверхности, и критерий её фактура – силой живописной, силой влияния красок при определённой живописной конструкции определяется ценность мастерства».
Произведение В.М. Юстицкого «Станковая живописная конструкция» (1921), экспонированное десятилетия спустя на выставке «Великая утопия», дало основание современному американскому исследователю утверждать, что «его картины представляют род обобщённых организационных схем потока или процесса, призванных передать беспредметную зримость богдановских систем исследований и тектологии».
Шарлотта Дуглас явно основывает своё суждение на том, что Юстицкий, руководивший сначала художественной студией саратовского Пролеткульта, вероятнее всего, был хорошо знаком с основными идеями активно теоретизирующего идеолога Пролеткульта Александра Александровича Богданова (Малиновского).
Это предположение не лишено оснований: в тезисах Юстицкого к одному из выступлений той поры, хранившихся в семье художника, были тому подтверждения. Во всяком случае, журнальная публикация «Очерков организационной науки» А.А. Богданова ему определённо должна была быть известна. Не случайно в его «Тезисах» разговор об абстрактной живописи начинался сразу после пространных рассуждений о тенденциях «коллективного мышления» по А.А. Богданову.
Однако сводить живописные конструкции Юстицкого лишь к иллюстрированию богдановских теорий, было бы опрометчиво: его напряжённые эксперименты тех лет шли в русле широкого диапазона исканий русского авангарда конца 1910-х – начала 1920-х годов.
Углубляться всё дальше в «метафизику беспредметности» Юстицкий не стал. Пришедший от изобразительности к конструкциям, он вернулся к обновлённой изобразительности, обогащённой осмысленным опытом смелых формальных экспериментов.
В Саратове Юстицкий начинал с преподавания в студии Пролеткульта, затем в художественном институте. Он был самым активным экспонентом всех местных авангардных выставок рубежа 1910-1920-х годов, занимался и праздничным оформлением зданий, выступал на многочисленных диспутах о современном искусстве, участвовал в различных конкурсах, был неизменным организатором разного рода театрализованных развлечений творческой молодёжи города: спектакли театра «Арена ПОЭХМА» (поэт, художник, музыкант, артист), и так называемый «Шумовой оркестр», был увлечён разработкой самых фантастических архитектурных проектов типа движущегося моста через Волгу, или проекта Памятника борцам революции в духе «гениального прожектёрства» Владимира Татлина.
Именно в ту пору Юстицкого увлекают идеи конструктивистов. И в сценографии: оформление «Паровозной обедни» Василия Каменского, а также в оформлении постановки «Разбойников» Ф. Шиллера, осуществленной Б. Вершиловым во Второй студии МХАТа, и в станковых композициях он повернул на тот путь.
Но с 1922 года господствующее положение левых близилось к закату: начинался достаточно крутой антиформалистический поворот, как в столицах, так и в провинции, поворот к обновлённой формальными исканиями авангарда фигуративности.
Один из самых проницательных художественных критиков той поры Абрам Эфрос уже годом раньше сознавал, что «левизна политическая окончательно разошлась с левизной художественной». «Появились симптомы, что искусство возвращается к прекрасной вещности. «Беспредметничество» тает, становясь элементарной школьной дисциплиной для молодых живописцев. Может быть, «супрематизм» в какой-нибудь разновидности останется в мастерских нескольких искателей законов абстрактного искусства, но с его общественной ролью покончено», – утверждал он.
Есть немало свидетельств тому, что ощущение кризиса авангарда, осознание несовершенства созданного им появилось и у самих левых живописцев, которые по реакции публики и отношению властей предчувствовали неизбежность надвигающихся перемен.
Сохранились и отрывочные тезисные заметки В.М. Юстицкого, навеянные, вероятнее всего, чтением художественных изданий и саратовскими дискуссиями тех лет. Эти наброски-раздумья позволяют хотя бы отчасти почувствовать волнующие мастера в ту пору творческие проблемы. Они уже достаточно далеко уводили его от лихорадочного лабораторного экспериментаторства самых первых советских годов.
Юстицкий писал о необоснованных скачках и забегании вперёд отдельных художников, стремящихся «делать новые вещи во имя оригинальности», ради которой «большинство готово бросить и само искусство». Рассуждал о том, что супрематизм, «явление чисто живописное», должно было бы удержать и поднять живопись, а на деле с этим лучше справляется искусство личное… А потому, как писал он: «Супрематизм кончен и также не нужен нам кубизм Пикассо – искусству сегодняшнему от них не легче. Но школы обогатятся опытом, проверенным на деле».
Уже с 1922 года чисто авангардистских выставок в Саратове не было. Речь, конечно, вовсе не о том, что мастера «левого» искусства мгновенно поправели, но период «бури и натиска» в художественной жизни Саратова, как и всей страны, безусловно, уже заканчивался.
«Выставка картин современных живописцев «Художники – голодающим», открывшаяся в мае 1922 года, уже самим названием своим («Выставка картин») знаменовала собой возврат к изобразительности, который, несмотря на наличие в экспозиции ряда беспредметных работ, обозначился всё-таки достаточно чётко.
Это не означало отказа буквально всех саратовских авангардистов от поисков самоценной живописности. Только искания эти пошли иными путями. От беспредметничества мастера эти повернули к станковой картине (чаще к пейзажу или натюрморту), в которой решались в основном живописно-фактурные и пластические задачи.
«Бунт материи» против засилья идей продолжал сказываться в постановке преимущественно формальных задач, в акценте на проблемах технологии, в демонстрации своей живописной кухни. Начиная с середины 1920-х годов, эти черты станут в их творчестве преобладающими. Все эти изменения отчётливо проявились и в творчестве Валентина Юстицкого, что стало заметно уже на его персональной выставке 1923 года.
И не случайно это было отмечено как в предисловии к её каталогу, так и на страницах местной прессы. «Вот художник, на котором с барометрической чувствительностью отразились характерные черты и вехи нашей переходной эпохи в искусстве», – писал рецензент, предваряя свои рассуждения об этой экспозиции.
К 1922–1923 годам обостряется интерес Юстицкого к собственно живописи, к изобразительным её возможностям, к архитектонике картинной формы, её ритмическому строю. Стремление обрести новую стилистику, найти современные средства выразительности, придать композиции особую весомость, а образам некую вневременную эпичность наглядно читаются в двух очень заметных и значимых в его творчестве начала 1920-х годов произведениях, отмеченных грубоватой величавостью: «Анжелюс» (1922) и «Молочница» (1923).
Далеко уходя от бытовой конкретики, Юстицкий акцентирует значительность жеста, затормаживая динамику: как бы приостанавливая на миг движение, он придаёт персонажам повседневного быта не свойственную им торжественность. Они мифологизируются, обретая поистине символическое звучание.
Смысловое содержание этих полотен гораздо выше внешнего их сюжета. Добиваясь монументальности в станковых полотнах, Юстицкий приходит к выразительному силуэту, жёстко оконтуривающему форму.
«Молочница» и «Анжелюс» написаны лаконично и строго, в сдержанной, почти монохромной гамме. Ритм их замедленный, тяжёлоступный. Собранность внутренней формы, экспрессивная «неуклюжесть» плотной живописи придают обобщённым фигурам сконденсированность и напряжённость.
Насыщенность приглушённого цвета, выразительность живописной фактуры тоже работают на художественный образ, подчёркивая конструктивно-пластическую основу. Цвет неотрывен от мощно построенной формы. Эти, по сути своей станковые, полотна обладают качествами подлинной монументальности.
По-иному смотрится «Пейзаж. Канал» (1923). В нём тоже обобщённость и выразительность примитива, но красочная гамма построена на более звучных тонах. Контрастные сопоставления тёмно-красного и охристо-коричневого в изображении городских строений с чернильно-синим в передаче воды и схематично трактованного кораблика, плотная фактура живописи заставляют вспомнить о творческих искания московских сезаннистов из числа мастеров «Бубнового валета».
А его картина «Сцена за столом» (1923) из собрания Вольского краеведческого музея гротесковой огрублённостью обликов, собравшихся за столом персонажей, экспрессией их жестов и напряжённым звучание цвета уже предвещает серию больших гротесково-сатирических гуашей художника середины и конца 1920-х годов, то есть самого расцвета нэповской поры.
В сохранившихся ярко красочных, островыразительных своих гуашах Валентин Юстицкий даёт выход раскованной внешней экспрессии самой манеры письма, пластической и цветовой энергии. В этом обширнейшем художественном цикле, не скрывающем теневые стороны нэповского обихода, метко схваченные сцены обыденной жизни, остро увиденный характерный для времени типаж.
Все они отмечены терпким привкусом нэповского бытия – «запах времени» ощутим в них сполна. Современники чувствовали образную энергию этих листов. Облик тогдашнего городского обывателя дан в них шаржировано: гротескная колоритность персонажей акцентирована нарочитой утрированностью характерных жестов и поз.
В остроэкспрессивной манере его гуашей несомненна стилистическая близость немецким экспрессионистам, но нет их экстатической напряжённости, смакования уродливого или страстного его обличения. («Четыре женские фигуры», «Две женские фигуры с белым конём», «За картами», «Сцена за круглым столом», «Охотники», «Три мужские фигуры», «Четыре фигуры за столом»). От экспрессионизма Юстицкий воспринял в основном одно из главных его качеств – «усиленную выразительность», как определил это Михаил Кузмин.
В немного эстетском живописном портрете своей жены, созданном в 1924-м году, Юстицкий, пожалуй, ещё острее, чем Алексей Сапожников в аналогичной по мотиву работе, передал характерные приметы эпохи: определённое самоощущение, выработанную манеру держаться, умение эффектно подать себя. Но по остроте восприятия этих примет и типажной акцентированности образной характеристики модели, пожалуй, его превосходит портрет своей молодой жены, созданный два года спустя учеником и другом Валентина Юстицкого Евгением Васильевичем Егоровым.
Труднее судить о как бы «голуборозовских» пейзажах Юстицкого, которыми он участвовал на выставках объединения «4 искусства». Судя по немногим сохранившимся фотоснимкам и по рассказам младших современников художника, композиции их были куда острее и конструктивнее, а живопись была более плотной и терпкой, нежели в «тающих» маревных пейзажах характерных уткинцев.
Черты характера Валентина Юстицкого ярко проявились и в педагогической деятельности. Его мастерская была особенно привлекательна для учащихся «левой» ориентации. В ней и в существенно изменившихся к концу 1920-х условиях, пожалуй, дольше, чем во всех остальных мастерских, ещё теплились отзвуки авангардных увлечений, сохранялся дух непредуказанных свыше исканий.
Там свободно и горячо спорили о классическом и современном искусстве, о различных течениях в отечественной и европейской живописи. Руководитель настойчиво пытался расширить эстетический кругозор своих питомцев, стремясь, чтобы, у них, по слову К. Малевича, «нарастилась определённая культура живописных ощущений».
Беседы Юстицкого о самом живописном материале, о фактуре, о качестве красочного мазка, о специфике масляной живописи, темперы, гуаши, акварели, о краске как о важнейшем факторе в создании живописного образа, запомнились многим его ученикам.
Но горячая привязанность к наставнику вовсе не означала обязательного следования его искусству. «Идите по стопам моим, говорит каждый вождь», – писал Казимир Малевич. Юстицкий был для большинства своих студентов неотразимо привлекателен, но по стопам своим их не отправлял. Занимательный и темпераментный рассказчик, он увлекал своих учеников на раздумья, покровительствовал их формальным исканиям, всячески поощряя устремлённость к неизведанному, настоящую одержимость новым.
Единоправным же властителем, подобно Малевичу, он по складу своей натуры быть не мог и не хотел. Этому препятствовал не только спонтанный характер его собственного творчества, но и методы его преподавания. Ученики Юстицкого, которые состоялись как творческие художники, ни в чём не повторяли своего учителя.
«Как педагог он был своеобразен и интересен, – вспоминала Гали Анисимова. – В период моей учёбы наблюдалась такая картина: каждый преподаватель вёл свой курс с первого по четвёртый год обучения.
И входя в мастерскую, можно было сразу сказать: «Это мастерская Петра Саввича Уткина» – от всех работ веяло «Голубой розой». А это мастерская Полякова – все работы напоминали Сезанна, любимого художника Полякова и т.д.
Спустя десятилетия, постепенно проясняется существо их художественных исканий, появляется взвешенная оценка реально ими сделанного на основе сбережённой части их полотен и графических листов, рассеянных по музеям и частным собраниям родной земли, а то и ряда зарубежных стран. Уточняются биографические сведения, характер художнической эволюции, её причина, последовательность этапов их творчества.
К числу таких мастеров принадлежит и Валентин Михайлович Юстицкий (1894-1951). Его зрелое творчество связано в основном с пребыванием с 1918 по 1935, и с 1946 по 1950 в Саратове, где он преподавал, активно участвовал на городских выставках, занимался декоративно-монументальным искусством, азартно теоретизировал, участвуя в жарких диспутах рубежа 1910-1920-х годов, словом, был едва ли не самым активным участником местного художественного процесса, бродильным и будоражащим его началом.
Это было отмечено в хлёсткой левацкой прокламации, написанной представителем поколения его учеников: «Юстицкий, Поляков, Давид Загоскин, Красовский – это дрожжи, которыми время заквасит материальное искусства в будущем. Они и сотни им подобных – материал для Будущего, и они не хотят оглядываться назад», писал ещё в 1922 году совсем юный тогда Алексей Кротков, поставивший Юстицкого на первое место в когорте отмеченных им обновителей саратовского изобразительного творчества.
Мы всё ещё не обладаем в достаточной полноте «золотой валютой фактов» (Осип Мандельштам) обо всех этапах его прерывистого творческого пути, его интересах и увлечениях на каждом из них, его окружении и реальными обстоятельствами повседневного быта.
Однако в последние десятилетия постепенно высветляется и та доля его художественного наследия, которая создана мастером за пределами Саратова, – частью как упоминания о его полотнах дореволюционной поры (в сохранившихся письмах, воспоминаниях, каталогах и откликах прессы), а частью в обнаружившихся работах его московской – 1935-1937 годов – и затянувшейся на десятилетие лагерной поры его жизни. Это были почти пропущенные исследователями периоды его внутреннего изменения.
Они существенно различаются между собой – прежде всего, своей эмоциональной окрашенностью. Но есть нечто невытравимо «юстицкое» в его живописи и графике различных периодов, как и в жизненном поведении в разные годы.
Но все внешние перипетии его жизни, как и послужной список, перечисление выставок, на коих он экспонировал свои работы, ещё не открывают его душу, его представления о сущности творчества, его отношения с ближним окружением и с эпохой, не позволяют понять своеобразие его творческой личности. Это скорее раскрывается, хотя и опосредованно, прежде всего, в самом его искусстве.
Бывают художники, сравнительно быстро нашедшие свою тему и свою особую творческую манеру. Сформировав персональную неповторимую стилистику, они развивают и обогащают её, не сворачивая с избранного пути на иные дороги.
Валентин Юстицкий не был однолюбом ни в жизни, ни в творчестве. На каждом отрезке художественной деятельности этого переимчивого мастера его отличала повышенная способность впитывать и преображать разнообразные стилистические тенденции своей эпохи, необычайно богатой противоборствующими исканиями, создавая на их основе собственную свою неповторимую стилистику.
Постичь причину его персональной интонации – такой разной в различные периоды его жизни и вместе с тем, безусловно, единой, присущей только ему одному, – задача совсем не из простых. Суть именно его творческой личности угадать в протеизме Юстицкого довольно трудно. Его не втиснешь ни в какую «обойму» – уж слишком он был субъективен и склонен к перемене стилистики, а стало быть, и обойм.
Бесконечные творческие перевоплощения этого принципиального противника любых форм эстетического консерватизма в кратких пределах только полутора десятилетий (1918-1932), и совсем другие картины рубежа 1940-50-х годов с их прихотливым затейливым артистизмом, а иные из них («Парки», «Дон-Кихот») с налётом символико-гротесковой образности, воспринимались абсолютно несвязанными между собой.
Ибо пропущенным оказалось важное для понимания его творческой эволюции десятилетие с середины 1930-х до середины 1940-х годов, нам неведомое и всплывшее отчасти не ранее начала 1970-х, когда вновь пробудился, заметно с годами усиливаясь, интерес к художественному наследию этого многообразно одарённого и необычайно активного мастера. Удивительно, как в творческом сознании одного талантливого живописца и графика умещались столь разнородные, казалось бы, несовместимые стилистические традиции.
Иные полагали, что полотна Юстицкого второй половины 1940-х созданы под влиянием художника-репатрианта Николая Михайловича Гущина (1888-1965), с которым он, вероятно, был знаком ещё в дореволюционную пору, а на рубеже 1940-1950-х они жили в Саратове на разных этажах одного дома на улице Гоголя и постоянно общались.
Мне тоже поначалу это представлялось самоочевидным. Но когда я привёз в музей из Москвы две его небольшие картины, написанные им на фанере от посылочных ящиков в концлагере, стало понятным, что перемена в его стилистике началась задолго до саратовской встречи с Гущиным уже в 1947 году.
Живописцы это разные, и произвольное их сближение объясняется только тем, что оба они были контрастны саратовской живописи той поры – и характером мотивов, и манерой исполнения, далёкой от господствующей тогда стилистики. Но по мироощущению своему Юстицкий и Гущин скорее полярны.
Существенно разнятся они и своей образной системой, и самим характером живописи, отношением к цвету, кладкой мазка, фактурой. Каждый из них шёл своим путём, обретая право на столь субъективную оптику.
Лагерные картины подарила Радищевскому музею ученица и верная подруга художника Гали Алексеевна Анисимова, жившая с ним в короткий московский период его творчества. Она же передала мне тетрадь с выписками из его лагерных писем, теперь уже не единожды опубликованных, где тоже проскальзывают его раздумья об искусстве, существенно отличающиеся от его записей начала 20-х годов.
Анисимова рассказывала, что в связи с его попытками выступить иллюстратором произведений французских писателей – Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Марселя Пруста, а также бельгийца Мориса Метерлинка – Валентин Михайлович серьёзно интересовался старой и новой французской философией и литературой.
И Мишель Монтень, и Блез Паскаль, и Рене Декарт, и Вольтер с Дени Дидро и Жан-Жаком Руссо, а из новых – Анри Бергсон были интересны и нужны ему в ту пору. А из писателей и поэтов его более других привлекали Франсуа Рабле, Оноре де Бальзак, Анри Стендаль, Ги де Мопассан, Анатоль Франс, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Гийом Аполлинер.
В искусстве изобразительном ему стали близки и мастера 18-19 веков, а не преимущественно живописцы, графики и скульпторы авангардные, как в 1910-1920-е годы. Он увлёкся Антуаном Ватто, Никола Ланкре, Жаном Фрагонаром, Франсуа Буше, Эженом Делакруа, Теодором Жерико, Камилем Коро, Жаном Милле, Гюставом Курбе, Шарлем Добиньи, а не только импрессионистами, фовистами, кубистами, экспрессионистами, как прежде.
Особенно он интересовался «праздниками» Адольфа Монтичелли, «скачками» Эдгара Дега, разыскивал рисунки Константина Гиса, которого знал по Радищевскому музею. Его вообще потянуло к классике, очень своеобразно осмысляемой им. Он часто и много говорил с ней и о великих старых мастерах ренессансной Италии.
Так запомнилось его ученице. А вот Владимир Алексеевич Милашевский рассказывал в самом начале 1970-х годов о горячем увлечении Юстицкого этой поры мастерами Парижской школы, особенно живописью Хаима Сутина.
На моё замечание о том, что само понятие «Парижская школа» и во Франции-то обозначилось не ранее середины 1920-х годов, а полотен Сутина и вовсе не было на московской выставке русских парижан в 1928 году, он насмешливо ответил, что они тогда (на рубеже двадцатых-тридцатых) знали о современном зарубежном искусстве куда больше, чем мы сейчас о нынешнем. А судьбами русских художников в Германии, Франции и даже Америке интересовались особенно. И живые контакты с ними, по его словам, в ту пору ещё сохранялись.
Вообще же представить себе мироощущение Валентина Юстицкого того периода довольно трудно за отсутствием вполне достоверных свидетельств, а только при смутных биографических сведениях его ранней поры.
Постепенно уточняются усилиями разных исследователей и факты реальной его биографии, начиная с документально зафиксированной даты рождения, и годы недолгой учёбы, как в России, так и в Париже, и меняющееся семейное положение. Развеиваются или ставятся под сомнение не подтверждённые ничем легенды. Уточняются его перемещения начала 1910-х и послужной список в Саратове с 1918-года.
Любопытно, что у Юстицкого никогда не было по-настоящему серьёзного наставника в искусстве, не было Учителя в высоком и по-настоящему творческом значении этого слова. Он мог бы повторить за Владимиром Милашевским: «Мы развивались без учителей, нас учил воздух эпохи». Быть может, отсюда столь частая смена стилевых ориентиров, характерная в целом для русского художества той поры.
Но можно предположить и совсем иную причину: импульсивный склад натуры художника, склонной к переменчивости горячих увлечений, постоянному поиску и апробированию всё новых и новых путей в искусстве. Такие художники встречались во все времена и в разных странах, но первая половина 20-го столетия в России оказалась для появления их очень уж благоприятной.
Раннее знакомство Юстицкого с относительно «левым» художеством в виленский период его жизни на рубеже 1900-1910-х годов имеет, увы, только предположительный характер. Но исключать его полностью, конечно же, нельзя. Ибо вероятность подобного непосредственного влияния на пробуждение интереса будущего художника к новейшим исканиям той поры всё-таки довольно велика.
Открытый всему новому, любознательный и увлечённый юноша едва ли мог пройти мимо тех, нарушавших школярские каноны исканий, которые были на этих экспозициях представлены. Но всё это, к сожалению, остаётся пока в сфере недостаточно аргументированных догадок. И будут ли они когда-нибудь подтверждены – тоже, увы, весьма гадательно. Предположительны и сроки пребывания молодого художника в Париже–1912-1913 годы, и характер его учебных занятий там.
Вернувшись в Вильно, Юстицкий женился. Затем он переехал к родственникам в Петроград, а в начале 1916 года перебрался в Москву, где и родилась его первая дочь.
К моменту своего появления в 1918-м году в Саратове за плечами Валентина Юстицкого было участие на разношёрстных по своему составу выставках Московского товарищества художников и салона «Единорог», выставке художников-фантастов и футуристической выставке «Магазин», организованной Владимиром Татлиным.
Последняя экспозиция ознаменовалась решительным разрывом организатора выставки с супрематическими поползновениями Казимира Малевича, забравшего со скандалом с выставки свои полотна. С ним ушёл и верный ему Иван Клюн. Пустующие в экспозиции места были заполнены остальными участниками выставки.
Быть может, с этим и связаны предположения, что дошедшие до нас театрализованные акварели из серии «костюмы и маски» и примитивистские гуаши из серии, тоже условно обозначенной как «Рыбаки», экспонировались на этой выставке. Каталог этого не подтверждает: Юстицкий представлен там только одним портретом художника Крастина.
Но, быть может, он был издан к вернисажу, а последующие изменения экспозиции зафиксированы не были. Этикетка же «футуристическая» достаточно условна для тогдашних левых выставок: обычно она объединяла различные по своим творческим устремлениям течения отечественного изобразительного авангарда той поры.
В самом начале 1917 года Юстицкий с семьёй перебирается в Кострому, где была поддержка родных его супруги. Там он стал деятельным участником «Северного общества художников». Местная пресса уделяла внимание не только его произведениям и общественной деятельности (работа в Совете костромского художественного общества, созданного в 1917 году, в комиссии по созданию плакатов «Займа свободы» после Февральской революции), но также его активному участию в развлекательных «Вечерах контрастов».
В костромской газете «Поволжский вестник» 28 февраля можно было прочесть забавный анонс: «Сольные выступления. Небывалая программа. Новотаризм поэтерик выявляет Валентин Юстицкий».
«Начало деятельности левых художников в Костроме связано с приездом из Москвы в январе 1917 года В.М. Юстицкого, участника выставок «Магазин» (Москва, 19 марта–20 апреля), художников-фантастов (Москва, 1916), Московского товарищества художников (Москва, 2 февраля – март 1916). Если на фоне московских левых художников (выставка «Магазин») картины Юстицкого не выделялись критиками, то на фоне спокойной костромской художественной жизни Юстицкий предстал бунтарём», – сообщает один из местных газетных обозревателей. А несколько месяцев спустя, 9 мая 1917 года в той же газете другой автор недоумевает, «почему так упорно продолжают называть его футуристом»?
«Быть может, как «выявитель новатаризма в поэтерике» он и футурист. Но как художник, имеющий дело с красками, он ничего общего с этим течением в искусстве не имеет», – резюмирует он. И, перечисляя ряд выставленных этим мастером полотен, иронически добавляет: «Все они далеко не однородны и, на первый взгляд, можно подумать, что принадлежат разным авторам». Запомним это весьма проницательное замечание газетного обозревателя, относящееся к раннему периоду творчества Юстицкого.
Интересно, что среди экспонентов одной из костромских выставок, наряду с Юстицким, был и Михаил Ксенофонтович Соколов (1885-1947). Его импровизационная графика 1920-х – начала 1930-х годов даёт серьёзные основания для плодотворных сопоставлений с графикой Юстицкого. К этому ещё предстоит непременно вернуться.
Да и сама судьба этих очень неординарных художников, репрессированных в середине 1930-х годов, освобождённых в середине 1940-х, но так и не доживших до своей реабилитации, во многом схожа. В их общем жизнеощущении было немало общего, однако по своему восприятию жизни, по темпераменту, как и основными чертами характера, они весьма различались между собой.
Если у газетных обозревателей Костромы были ещё основания сомневаться в принадлежности Юстицкого широко понимаемому футуризму, то в Саратове с первых же его шагов он воспринимался как представитель самого крайнего левого направления. Кипучая деятельность Юстицкого 1920-х годов, участие в многочисленных диспутах, стремление всюду заявить о себе, изрядная доля эпатажа, игровой раскованности создавали впечатление известной эстетической всеядности.
Восприимчивый ко всякого рода художественным веяниям, пробуя себя на самых различных путях, не имея постоянного ориентира, он никогда не обладал непреклонным упорством художников-первопроходцев или постоянством преданных им учеников, навсегда заворожённых творческими принципами своих фанатичных наставников.
Мощь односторонности Юстицкому была чужда. Он интересен противоположным: за какие-то полтора десятилетия художник успел побывать и неопримитивистом, и футуристом, и презентистом, и ахрровцем, и остовцем, и почти голуборозовцем на выставках «4 искусства», и рисовальщиком-виртуозом из группы «13».
Сейчас нелегко объяснить эту всеотзывчивость талантливого живописца и графика, парадоксальность его блистательного эклектизма. Очевидна явная недостаточность изучения наследия Юстицкого только на уровне выразительных средств и технических приёмов: это не даст разгадки его столь частых стилистических пируэтов. Необходимо понимание личности художника, вся жизнь которого была безостановочным поиском, а также специфических условий его творческого бытия в провинциальном городе.
С одной стороны, его стремление прорваться на престижные столичные выставки, ни одна из которых никогда не была для него по-настоящему «своей». С другой – особый склад натуры Юстицкого: постоянная готовность к усвоению отовсюду идущих импульсов, гибкость реакций на меняющиеся обстоятельства, отсутствие фанатизма, как в дурном, так и в высоком значении этого слова, смолоду присущая ему неодолимая тяга к непрестанному иронически-игровому самообновлению.
Человек он был горячий, искромётный, увлекающийся многим, чуждый стремлению создавать каноны жёсткой законченной системы, способный едва ли не одновременно обращаться к различным стилистическим течениям, чем и объясняется разбросанность его исканий. А художник – творчески очень мобильный, раскованный, абсолютно свободный в выборе стилистики, легко меняющий манеру, не скованный заученными приёмами.
Он переимчиво вникал в особенности самых различных стилевых систем, субъективно переиначивая их на свой лад, достигая иного образно-семантического единства и персональной тональности. По существу его отзывчивого творчества Юстицкого не назовёшь стойким последователем ни одного из тогдашних художественных течений.
К нему вполне приложимы отдельные тезисы из доклада А.В. Бакушинского в 1929 году в ГАХНе (Государственной Академии художественных наук), посвящённого искусству М.К. Соколова: «Повороты его пути очень резки, но органичны. Его увлечения влияниями – многочисленны и в своей последовательности, и в одновременности. Что, этот широкий круг воздействий стирает индивидуальность? Нет».
Индивидуальность Юстицкого бросалась в глаза всем: «Это был живой, талантливый, темпераментный художник. Быстрый в своём творчестве, излишне самолюбивый, он всегда гнался за чем-нибудь новым. Отсюда и дефекты: отсутствие глубины, подражательность, неоправданные вольт-фасы. Работы его, часто дискуссионные, всегда смотрелись с большим интересом и, наряду с дарованием, он обладал большим художественным вкусом. Я встретился с ним после Октябрьской революции и испытал на себе некоторое его влияние. Правда, отталкивался от него в противоположную сторону, но я и сейчас помню несколько его очень красивых пейзажей», – таким запомнился Юстицкий осмотрительному и неспешному художнику Борису Александровичу Зенкевичу.
Начинал он в Саратове, конечно же, не с красивых пейзажей. Едва ли не самой ранней из сохранившихся его саратовских работ оказался тонированный гипс «Голова киргиза» (1919), напоминающий о том, что он брал уроки скульптуры в Париже.
Выразительный его облик в примитивистской трактовке образа как бы продолжает его гуаши из серии «Рыбаки» (1916), где он отдал дань нарочитой примитивистской архаике. Гротесковая выразительность их огрублённых, исполненных мощи идолообразных и массивных фигур впечатляет. Особенно, кряжистая, мастодонтообразная торговка рыбой.
В этом же 1919 году он взялся за масштабные монументальные росписи в клубе Пролеткульта. Тема их – героика труда, пафос революции. Ему помогали студийцы. Одна из его учениц – Муза Александровна Троицкая (Егорова) – так вспоминает об этом: «Работа была выполнена в короткий срок в смелой, уверенной манере Юстицкого. Декоративная обобщённость, динамичность, острый рисунок характеризовали манеру Юстицкого, да и были присущи общему направлению искусства тех дней. (…) Смелость, уверенность руки Юстицкого, оригинальность композиционного решения восхищали меня, волшебная быстрота и безошибочность кисти запомнились мне на всю жизнь».
По сохранившемуся в музейном архиве любительскому фотоснимку отчётной выставки мастерской В.М. Юстицкого, проходившей с 11 по 18 мая 1921 года в художественно-практическом институте, можно судить об общей направленности его искусства этой поры: поиски законов формообразования, выявление первичных значимых элементов формы, проблемы статики и динамики, забота о самой материи живописи, отвлечённой от своего предметного носителя, лишённой какой бы то ни было изобразительной темы, построенной на экспрессии самих живописных цветофактур, которые и становились «сюжетом» этих неизобразительных работ. Шёл тренаж в освоении выразительных возможностей материала.
Тогдашние эстетические его тяготения явно ближе к В.Е. Татлину, нежели к К.С. Малевичу. Но, вероятно, именно в это время Юстицкий, стремившийся выявить самое существо живописи как таковой, мечтавший о самодовлеющей живописности, записывал в тезисах к одному из своих выступлений: «Шедевром всё же будет покрытие плоскости тоном настолько живописным, что не понадобится ни литература, ни психология, ни объёмы и формы. Такой иногда уже Матисс; несмотря на свою легкомысленность, в живописи понимает лучше других – к чему надо вести живопись».
Юстицкий, всегда стремящийся к непрерывному обновлению, никогда не был склонен канонизировать какую бы то ни было живописную систему. «Писать и прятать, и не видеть своих вещей при письме новой – вот верный приём; при нём нет давления из старых изжитых вещей, и, по крайней мере, не рискуешь повторяться; быть последовательным – вопрос иной». А вослед шёл, казалось бы, совершенно неожиданный для перманентного новатора вывод: «Настоящее новое искусство – непременный продукт вполне понятой и пережитой прежней культуры, без этого – всё крик неврастеника, а их так много».
Это вовсе не означало, что художник напрочь открестился от исканий современного искусства, напротив, он был уверен, что обращение к традиции только укрепляет их: «Материальное искусство – вот девиз дня – ближе к возрождению через станок – к живописи, через опыт – к плоскости». Теоретические рассуждения Юстицкого не мешали его собственной творческой практике, никогда не обуздывали её.
Традиционное и новаторское постоянно сопрягаются в его текстах: «Сезанновский объём живописен – в этом его ценность. Тициан и Сезанн – два полюса одного и того же начинания», – отмечал он в своих черновых набросках к выступлению. В его творческом сознании сближаются достижения великих мастеров с живописными исканиями текущего дня.
«Хочется думать живописью, как думали ясно не одними образами, а красками, то есть через тон. Воздействие красок велико, в Ренессансе была гармония, почему же тогда анализ играл большую роль, чем теперь? Картину можно узнать по поверхности, и критерий её фактура – силой живописной, силой влияния красок при определённой живописной конструкции определяется ценность мастерства».
Произведение В.М. Юстицкого «Станковая живописная конструкция» (1921), экспонированное десятилетия спустя на выставке «Великая утопия», дало основание современному американскому исследователю утверждать, что «его картины представляют род обобщённых организационных схем потока или процесса, призванных передать беспредметную зримость богдановских систем исследований и тектологии».
Шарлотта Дуглас явно основывает своё суждение на том, что Юстицкий, руководивший сначала художественной студией саратовского Пролеткульта, вероятнее всего, был хорошо знаком с основными идеями активно теоретизирующего идеолога Пролеткульта Александра Александровича Богданова (Малиновского).
Это предположение не лишено оснований: в тезисах Юстицкого к одному из выступлений той поры, хранившихся в семье художника, были тому подтверждения. Во всяком случае, журнальная публикация «Очерков организационной науки» А.А. Богданова ему определённо должна была быть известна. Не случайно в его «Тезисах» разговор об абстрактной живописи начинался сразу после пространных рассуждений о тенденциях «коллективного мышления» по А.А. Богданову.
Однако сводить живописные конструкции Юстицкого лишь к иллюстрированию богдановских теорий, было бы опрометчиво: его напряжённые эксперименты тех лет шли в русле широкого диапазона исканий русского авангарда конца 1910-х – начала 1920-х годов.
Углубляться всё дальше в «метафизику беспредметности» Юстицкий не стал. Пришедший от изобразительности к конструкциям, он вернулся к обновлённой изобразительности, обогащённой осмысленным опытом смелых формальных экспериментов.
В Саратове Юстицкий начинал с преподавания в студии Пролеткульта, затем в художественном институте. Он был самым активным экспонентом всех местных авангардных выставок рубежа 1910-1920-х годов, занимался и праздничным оформлением зданий, выступал на многочисленных диспутах о современном искусстве, участвовал в различных конкурсах, был неизменным организатором разного рода театрализованных развлечений творческой молодёжи города: спектакли театра «Арена ПОЭХМА» (поэт, художник, музыкант, артист), и так называемый «Шумовой оркестр», был увлечён разработкой самых фантастических архитектурных проектов типа движущегося моста через Волгу, или проекта Памятника борцам революции в духе «гениального прожектёрства» Владимира Татлина.
Именно в ту пору Юстицкого увлекают идеи конструктивистов. И в сценографии: оформление «Паровозной обедни» Василия Каменского, а также в оформлении постановки «Разбойников» Ф. Шиллера, осуществленной Б. Вершиловым во Второй студии МХАТа, и в станковых композициях он повернул на тот путь.
Но с 1922 года господствующее положение левых близилось к закату: начинался достаточно крутой антиформалистический поворот, как в столицах, так и в провинции, поворот к обновлённой формальными исканиями авангарда фигуративности.
Один из самых проницательных художественных критиков той поры Абрам Эфрос уже годом раньше сознавал, что «левизна политическая окончательно разошлась с левизной художественной». «Появились симптомы, что искусство возвращается к прекрасной вещности. «Беспредметничество» тает, становясь элементарной школьной дисциплиной для молодых живописцев. Может быть, «супрематизм» в какой-нибудь разновидности останется в мастерских нескольких искателей законов абстрактного искусства, но с его общественной ролью покончено», – утверждал он.
Есть немало свидетельств тому, что ощущение кризиса авангарда, осознание несовершенства созданного им появилось и у самих левых живописцев, которые по реакции публики и отношению властей предчувствовали неизбежность надвигающихся перемен.
Сохранились и отрывочные тезисные заметки В.М. Юстицкого, навеянные, вероятнее всего, чтением художественных изданий и саратовскими дискуссиями тех лет. Эти наброски-раздумья позволяют хотя бы отчасти почувствовать волнующие мастера в ту пору творческие проблемы. Они уже достаточно далеко уводили его от лихорадочного лабораторного экспериментаторства самых первых советских годов.
Юстицкий писал о необоснованных скачках и забегании вперёд отдельных художников, стремящихся «делать новые вещи во имя оригинальности», ради которой «большинство готово бросить и само искусство». Рассуждал о том, что супрематизм, «явление чисто живописное», должно было бы удержать и поднять живопись, а на деле с этим лучше справляется искусство личное… А потому, как писал он: «Супрематизм кончен и также не нужен нам кубизм Пикассо – искусству сегодняшнему от них не легче. Но школы обогатятся опытом, проверенным на деле».
Уже с 1922 года чисто авангардистских выставок в Саратове не было. Речь, конечно, вовсе не о том, что мастера «левого» искусства мгновенно поправели, но период «бури и натиска» в художественной жизни Саратова, как и всей страны, безусловно, уже заканчивался.
«Выставка картин современных живописцев «Художники – голодающим», открывшаяся в мае 1922 года, уже самим названием своим («Выставка картин») знаменовала собой возврат к изобразительности, который, несмотря на наличие в экспозиции ряда беспредметных работ, обозначился всё-таки достаточно чётко.
Это не означало отказа буквально всех саратовских авангардистов от поисков самоценной живописности. Только искания эти пошли иными путями. От беспредметничества мастера эти повернули к станковой картине (чаще к пейзажу или натюрморту), в которой решались в основном живописно-фактурные и пластические задачи.
«Бунт материи» против засилья идей продолжал сказываться в постановке преимущественно формальных задач, в акценте на проблемах технологии, в демонстрации своей живописной кухни. Начиная с середины 1920-х годов, эти черты станут в их творчестве преобладающими. Все эти изменения отчётливо проявились и в творчестве Валентина Юстицкого, что стало заметно уже на его персональной выставке 1923 года.
И не случайно это было отмечено как в предисловии к её каталогу, так и на страницах местной прессы. «Вот художник, на котором с барометрической чувствительностью отразились характерные черты и вехи нашей переходной эпохи в искусстве», – писал рецензент, предваряя свои рассуждения об этой экспозиции.
К 1922–1923 годам обостряется интерес Юстицкого к собственно живописи, к изобразительным её возможностям, к архитектонике картинной формы, её ритмическому строю. Стремление обрести новую стилистику, найти современные средства выразительности, придать композиции особую весомость, а образам некую вневременную эпичность наглядно читаются в двух очень заметных и значимых в его творчестве начала 1920-х годов произведениях, отмеченных грубоватой величавостью: «Анжелюс» (1922) и «Молочница» (1923).
Далеко уходя от бытовой конкретики, Юстицкий акцентирует значительность жеста, затормаживая динамику: как бы приостанавливая на миг движение, он придаёт персонажам повседневного быта не свойственную им торжественность. Они мифологизируются, обретая поистине символическое звучание.
Смысловое содержание этих полотен гораздо выше внешнего их сюжета. Добиваясь монументальности в станковых полотнах, Юстицкий приходит к выразительному силуэту, жёстко оконтуривающему форму.
«Молочница» и «Анжелюс» написаны лаконично и строго, в сдержанной, почти монохромной гамме. Ритм их замедленный, тяжёлоступный. Собранность внутренней формы, экспрессивная «неуклюжесть» плотной живописи придают обобщённым фигурам сконденсированность и напряжённость.
Насыщенность приглушённого цвета, выразительность живописной фактуры тоже работают на художественный образ, подчёркивая конструктивно-пластическую основу. Цвет неотрывен от мощно построенной формы. Эти, по сути своей станковые, полотна обладают качествами подлинной монументальности.
По-иному смотрится «Пейзаж. Канал» (1923). В нём тоже обобщённость и выразительность примитива, но красочная гамма построена на более звучных тонах. Контрастные сопоставления тёмно-красного и охристо-коричневого в изображении городских строений с чернильно-синим в передаче воды и схематично трактованного кораблика, плотная фактура живописи заставляют вспомнить о творческих искания московских сезаннистов из числа мастеров «Бубнового валета».
А его картина «Сцена за столом» (1923) из собрания Вольского краеведческого музея гротесковой огрублённостью обликов, собравшихся за столом персонажей, экспрессией их жестов и напряжённым звучание цвета уже предвещает серию больших гротесково-сатирических гуашей художника середины и конца 1920-х годов, то есть самого расцвета нэповской поры.
В сохранившихся ярко красочных, островыразительных своих гуашах Валентин Юстицкий даёт выход раскованной внешней экспрессии самой манеры письма, пластической и цветовой энергии. В этом обширнейшем художественном цикле, не скрывающем теневые стороны нэповского обихода, метко схваченные сцены обыденной жизни, остро увиденный характерный для времени типаж.
Все они отмечены терпким привкусом нэповского бытия – «запах времени» ощутим в них сполна. Современники чувствовали образную энергию этих листов. Облик тогдашнего городского обывателя дан в них шаржировано: гротескная колоритность персонажей акцентирована нарочитой утрированностью характерных жестов и поз.
В остроэкспрессивной манере его гуашей несомненна стилистическая близость немецким экспрессионистам, но нет их экстатической напряжённости, смакования уродливого или страстного его обличения. («Четыре женские фигуры», «Две женские фигуры с белым конём», «За картами», «Сцена за круглым столом», «Охотники», «Три мужские фигуры», «Четыре фигуры за столом»). От экспрессионизма Юстицкий воспринял в основном одно из главных его качеств – «усиленную выразительность», как определил это Михаил Кузмин.
В немного эстетском живописном портрете своей жены, созданном в 1924-м году, Юстицкий, пожалуй, ещё острее, чем Алексей Сапожников в аналогичной по мотиву работе, передал характерные приметы эпохи: определённое самоощущение, выработанную манеру держаться, умение эффектно подать себя. Но по остроте восприятия этих примет и типажной акцентированности образной характеристики модели, пожалуй, его превосходит портрет своей молодой жены, созданный два года спустя учеником и другом Валентина Юстицкого Евгением Васильевичем Егоровым.
Труднее судить о как бы «голуборозовских» пейзажах Юстицкого, которыми он участвовал на выставках объединения «4 искусства». Судя по немногим сохранившимся фотоснимкам и по рассказам младших современников художника, композиции их были куда острее и конструктивнее, а живопись была более плотной и терпкой, нежели в «тающих» маревных пейзажах характерных уткинцев.
Черты характера Валентина Юстицкого ярко проявились и в педагогической деятельности. Его мастерская была особенно привлекательна для учащихся «левой» ориентации. В ней и в существенно изменившихся к концу 1920-х условиях, пожалуй, дольше, чем во всех остальных мастерских, ещё теплились отзвуки авангардных увлечений, сохранялся дух непредуказанных свыше исканий.
Там свободно и горячо спорили о классическом и современном искусстве, о различных течениях в отечественной и европейской живописи. Руководитель настойчиво пытался расширить эстетический кругозор своих питомцев, стремясь, чтобы, у них, по слову К. Малевича, «нарастилась определённая культура живописных ощущений».
Беседы Юстицкого о самом живописном материале, о фактуре, о качестве красочного мазка, о специфике масляной живописи, темперы, гуаши, акварели, о краске как о важнейшем факторе в создании живописного образа, запомнились многим его ученикам.
Но горячая привязанность к наставнику вовсе не означала обязательного следования его искусству. «Идите по стопам моим, говорит каждый вождь», – писал Казимир Малевич. Юстицкий был для большинства своих студентов неотразимо привлекателен, но по стопам своим их не отправлял. Занимательный и темпераментный рассказчик, он увлекал своих учеников на раздумья, покровительствовал их формальным исканиям, всячески поощряя устремлённость к неизведанному, настоящую одержимость новым.
Единоправным же властителем, подобно Малевичу, он по складу своей натуры быть не мог и не хотел. Этому препятствовал не только спонтанный характер его собственного творчества, но и методы его преподавания. Ученики Юстицкого, которые состоялись как творческие художники, ни в чём не повторяли своего учителя.
«Как педагог он был своеобразен и интересен, – вспоминала Гали Анисимова. – В период моей учёбы наблюдалась такая картина: каждый преподаватель вёл свой курс с первого по четвёртый год обучения.
И входя в мастерскую, можно было сразу сказать: «Это мастерская Петра Саввича Уткина» – от всех работ веяло «Голубой розой». А это мастерская Полякова – все работы напоминали Сезанна, любимого художника Полякова и т.д.
А в мастерской Юстицкого все ученики были разные, все были самими собой. Юстицкий не подавлял индивидуальность, а наоборот, старался развить особенность каждого ученика. Часто у него в мастерской засиживались до позднего, вели с ним беседы об искусстве, спорили, и это было интересно».
И другие выпускники этой мастерской, как и она, в своих письмах и беседах повествовали также и о неистощимой изобретательности и безупречном вкусе Юстицкого в постановках как учебных натюрмортов, так и живой натуры. Они были изначально ориентированы их наставником на нешаблонное их восприятие, а потому и своеобычность вероятного их воплощения в студенческих работах.
Юстицкий всегда поощрял поиск, настойчиво ратовал за выраженную персональную интонацию каждого студенческого холста, поддерживая именно нестандартные решения, он терпеть не мог равнодушного отношения к работе, всегда стремился ввести своих подопечных в эмоциональное состояние, помогающее раскрыться личному ощущению увиденного.
Хорошо запомнился рассказ одного из учеников Валентина Юстицкого. Когда он увидел, что студент пишет постановку очень вяло, без подъёма, без волнения, он подозвал его, сунул в ладонь трёшницу и сказал: «Сгоняй-ка на вокзал, выпей водки, разбей витрину, убеги от милиционера, а уж потом и становись к мольберту».
Не столь уж простым и цельным был Юстицкий: в нём странным образом сочетались очень различные возможности, по-разному проявлявшиеся в различные времена. И рисовать его благостным и успокоенным не стоит: он бывал и насмешливым, колким и язвительным, порывистым, переимчивым, легко и всегда искренне меняющим свои увлечения.
В Саратове начала 1920-1930-х годов он был одним из самых ярких катализаторов местного художественного процесса, увлечённым поборником любых интересных начинаний, человеком широких, лишённых косности воззрений. Обаяние личности этого художника надолго запомнилось его ученикам.
Юстицкий был человеком достаточно гуманитарно образованным, порою с выраженной склонностью теоретизировать, но импульсивное, чувственное начало явно доминировало в нём над рассудочным, чисто головным. Ему не могли пришпилить кличку «мозговик», как, к примеру, Павлу Кондратьеву.
В нашей интересной и долгой телефонной беседе известный литературовед, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Воронежского университета Анатолий Михайлович Абрамов, которого интересовала проблема соотнесённости стилистики прозы Андрея Платонова и живописи Павла Филонова, неожиданно вспомнил о годах учёбы в Саратовском художественном техникуме.
Он горячо заговорил, о той атмосфере полной раскованности, которая царила в мастерской Юстицкого. Абрамов отмечал важность для всех ребят этой мастерской тех свободных бесед о современном искусстве, в которых ощущалось не только умение транслировать чужие идеи, но и давать им собственную оригинальную огласовку. Юстицкий представлялся ему человеком широко образованным, увлечённым, зажигающим других.
Анатолий Михайлович потом прислал по моей просьбе краткие воспоминания о поре его учёбы, которую пришлось оставить из-за аллергии на краски. Приложил к ним биографическое стихотворение «Дорога», где есть и строки, посвящённые своим педагогам:
«А Саратов? Разве я забуду,
Сколько я в душе понёс оттуда?
Я не знал, бывало, года сытого,
Но не раз Юстицкий и Мельситова
(Музыка их душ во мне звенит)
Будто поднимали нас в зенит».
Рядом с живописцем Юстицким он называет филолога Варвару Терентьевну Мельситову – талантливого и увлечённого преподавателя русского языка и литературы, замечательные уроки которой, предопределили его будущую литературоведческую карьеру.
Это не случайно. В телефонной беседе профессор акцентировал серьёзный гуманитарный потенциал Валентина Михайловича Юстицкого, заметно выделяющий его среди других педагогов, высокий уровень его общекультурного кругозора.
Двадцатые годы – наиболее счастливая пора в жизни и творчестве Юстицкого. К середине 1920-х наметился, быть может, вынужденный поворот художника к бытовому жанру, к той тематике, которая получит развитие в полотнах ближе к середине 1930-х годов.
Если об этих несохранившихся жанровых картинах можно предположительно судить как о тенденциях, реализовавшихся уже в последующее десятилетие, то о грандиозном заказном портрете Ленина, экспонировавшемся на выставке в 1925-м году, приходится говорить лишь на основании беглых упоминаний в прессе и рассказам его младших коллег. Единственное, что совершенно очевидно: к такого рода «социальному заказу» в ту пору относились совсем иначе, чем спустя десятилетие.
Вместе с другими саратовскими мастерами Юстицкий участвовал на ряде столичных выставок. На седьмой выставке АХРРа он представил типажный портрет немца-колониста, интерьер и ряд пейзажей.
Привлекательнее для него было участие в экспозициях объединения «4 искусства», где ему, если верить В.А. Милашевскому, охотно покровительствовал Павел Варфоломеевич Кузнецов. Он выставлял там и пейзажи (на выставке 1926 и 1928 года), и жанровые композиции: «Рыбаки», «Девушки с сетями» (в 1929 году).
Но, быть может, гораздо важнее именно для понимания значения рисунка в творчестве этого художника является его участие графическими листами в выставке группы «13», открывшейся в феврале 1929 года. Ибо в общем контексте его творчества различные виды графики явно преобладают.
Инициаторами этой творческой группировки стали бывшие саратовцы, известные рисовальщики – Владимир Милашевский, Даниил Даран и косвенно связанный с этим городом Николай Кузьмин.
Участие Юстицкого на первой выставке группы «13» её признанный лидер и теоретик В.А. Милашевский объяснял следующим образом: «И, наконец, под номером 13 – Юстицкий. Наш с Дараном знакомый по Саратову. Он привёз в Москву показать своё масло. Очень сумбурное, очень модное, псевдопарижское и по-настоящему провинциальное. Ни следа жизни, ни следа наблюдения. Я запротестовал. Менее всего я хотел сколачивать группу «слов модных полный лексикон», выставку пародий.
Ловкий Юстицкий бросил своё велеречивое масло и сделал несколько лошадок. Они тоже фальшивы и поддельны, но так и быть, по крайней мере, они легки и коротки. Не скучны. И даже обманули Терновца, как потом оказалось».
Впрочем, персональное своеобразие каждого из группы «13» тоже не совсем укладывалось в жёсткие рамки исходной доктрины Милашевского. А выставленные там «Скачки» Юстицкого действительно удивляют цепкостью памяти художника, захватывают маэстрийной лёгкостью и раскованной виртуозностью исполнения.
Язвительный Милашевский, культивировавший темповое рисование с натуры, всегда настороженно относился к вольным импровизациям на заданную тему, сколь виртуозными они ни были бы. Но именно такого рода рисунки Юстицкого, мастерски варьировавшего подобные мотивы, поражали тогда воображение многих молодых художников.
Об этом восторженно рассказывал мне в своей мастерской в Волгограде один из его учеников Алексей Иванович Бородин.
О том же вспоминала в адресованном мне письме художница Галина Гавриловна Пелевина (жена Фёдора Русецкого): «Мне посчастливилось наблюдать за его работой в 1930-м году: он делал моментальные рисунки углем на 1/4 листа ватмана у нас дома. Процесс работы запомнился на всю жизнь.
Тема: скачки, лошади и всадники. Юстицкий, подойдя к столу, стремительно рисовал лошадей и всадников, отбрасывал лист и тут же брался за следующий, предварительно отступив, «отбежав» от стола шага на два. Наброски полны движения. Какой это был великолепный рисовальщик! И какая трудная судьба!»
Стремление к максимальному динамизму характерно и для других рисунков Юстицкого – стремительных набросков, ухватывающих буквально «на лету» всё увиденное, сохраняющих трепетность самой жизни. Иногда натурность их имитированная: немало рисунков чисто импровизационных, в которых острота восприятия подменяется остротой подачи.
Но если в изображении скачек художник ищет графическую формулу стремительного движения, то другие рисунки, не скованные определённой задачей, лишены этой лапидарной чёткости линий. В них больше свободы, импульсивного самовыражения художника, его творческой фантазии.
Одна из статей Юрия Яковлевича Герчука, глубокого знатока искусства графики, называется «Стихия рисунка». О графике Валентина Юстицкого можно было бы сказать немного иначе: «стихия импровизационного рисунка».
Юстицкому присуща была настоящая одержимость рисованием. По воспоминаниям Музы Александровны Егоровой (Троицкой) он с Евгением Егоровым культивировали как жизненный принцип постоянный и упорный тренаж руки и глаза, рисуя так называемые «croqis» (кроки) – мелькающие пейзажи, цирковые репетиции, воображаемые образы, овладевая предельно лапидарной и экспрессивной манерой.
Это как раз то самое динамичное видение, которое питает стилевую энергию. Беглый набросок с мотива, как бы случайно, буквально на лету увиденного и схваченного, у них вовсе не был подсобным материалом, а именно самостоятельным законченным произведением.
Увлечение виртуозным набросочным рисунком сохранилось у него навсегда, как и импровизационная манера исполнения и выработанная отточенность графической формы этих мгновенных и как бы мимолётных его набросков. Отсюда их внутренняя напряжённость при видимой лёгкости.
У Юстицкого к началу 1930-х годов давно уже был выработан свой графический почерк: его подвижная и гибкая линия живо передаёт эмоциональные реакции художника.
И вполне понятна реакция Б.Н. Терновца на его «Скачки» в предисловии к каталогу выставки «13»: «Этюды скачек Юстицкого – проблемы передачи движения, увлекавшие когда-то Дега, и не перестающие волновать современных художников».
Вызревшая к началу 1930-х ситуация в социально-политической и художественной жизни страны оказалась крайне неблагоприятной для мастеров такого плана. Поворот к бытовому жанру, к портрету и пейзажу, обозначившийся в его живописи середины 1920-х годов, получил развитие в известных нам его полотнах середины 1930-х: «Рыбаки», «Пейзаж» и недавно подаренный Радищевскому музею Владимиром Спиваковым эффектный женский портрет «Печальная муза».
По сохранившимся фотографиям известны и несколько иные работы этого времени: портрет известного тогда саратовского врача Махлина, масштабный и острый по композиции фантазийный индустриальный пейзаж и «Шуцбундовцы» (1934).
Последняя картина – оперативный отклик на политическую злобу дня: в феврале 1934 года в Вене шли бои – отряды шуцбунда (соцдемократического союза) отказались разоружиться. Войска и полиция начали осаду кварталов, занятых ими. Часть их отступила в Чехословакию, а захваченных руководителей повесили.
Форсированная, почти плакатная экспрессия этой картины, судя по фотографии, перекликалась с исканиями той группы живописцев ОСТа, которая явно ориентировалась на эстетические принципы немецкого экспрессионизма, хорошо знакомые Валентину Юстицкому и в чём-то близкие ему. Но судить по тоновому снимку можно только о характере композиции и пластике, но никак не о колорите.
К этому моменту ситуация в Саратове стала для Юстицкого крайне неблагоприятной. Уже с рубежа 1920-1930-х годов, в пору так называемого «Великого перелома», обозначились заметные перемены в методах и стиле руководства тоталитарной властью всей духовной жизнью страны.
В провинции это принимало особенно жёсткие и часто нелепые формы. Существенно изменились порядки в художественном техникуме. Они привели к «исходу» наиболее образованных и талантливых педагогов, пытавшихся посильно противостоять административному нажиму партийных демагогов, настойчиво проводивших линию тотальной идеологизации учебного процесса, подчиняя его конъюнктурным задачам текущего момента. Вслед за ними потянулись в столицы и наиболее перспективные выпускники и даже одаренные и творчески активные студенты.
Юстицкий продержался дольше других, но и он в 1935-м году вынужден был покинуть Саратов, пытаясь как-то закрепиться в Москве. В московский период в силу специфичности весьма стеснённого Каширского быта рисунок поневоле стал играть основную роль в его искусстве. И вообще графическое наследие всех этапов его творчества очень обширно и весьма разнообразно, но пока, к сожалению, недостаточно изучено.
Книжная графика Юстицкого осталась нереализованной: любая регламентация его визуального прочтения текста казалась ему унизительной, и он отказывался менять что-либо. Для него как будто не существовали незыблемые правила: как и Пушкин, он был по природе своей адогматичен. Простой и терпимый в общении и в быту, он был весьма амбициозен и абсолютно несговорчив в вопросах творческих.
Сохранились об этом времени воспоминания его ученицы и близкой подруги той поры Гали Анисимовой: «Московский его период был трагичен. Он сильно пил и потому мало работал. Да и работать было негде, так как приходилось жить за сто километров от Москвы в Кашире.
Всё же в этот период он получил интересный заказ в издательстве «Асаdemia». Иллюстрировал он две вещи французских авторов: Золя «Деньги» и А. Франса «Суждения аббата Жерома Куньяра». Это очень трудная вещь с отсутствием фабулы. Но Валентин Михайлович справился с ней блестяще. Я помогала ему в этих работах.
Рисунки В.М. были очень своеобразны и остры, но затруднительны в печати. На просьбы упростить рисунки для печати В.М. отвечал: «Я – Юстицкий, если вам это не походит, возьмите другого художника». Юстицкий никогда не шёл на компромисс.
Работы эти закончились трагедией. Он был арестован, и иллюстрации эти не были напечатаны. Где они сейчас я не знаю. После его ареста я пыталась создать его словесный портрет стихами. Я не поэтесса, и потому привожу эти стихи только как сжатую характеристику этого человека. Так, как я его понимаю:
«По старым улицам Каширы
Шагает странный человек:
На сапогах, на шубе дыры,
Но утончённый древний грек
Так не носил свои одежды.
В глазах каширского невежды
Сей человек и прост и мил
Тем, что подвыпить он любил,
Что не обидел он собаки,
Не принимал участья в драке,
С народом ласков был и мил,
А сильным мира не кадил.
Он плакал на чужих могилах,
С мальчишками в войну играл,
Искал он ангелов бескрылых
И в Мире Совести искал».
Этот благостный облик задиристого художника, который рисуется влюблённой в него ученице, весьма отличается от того, как вспоминали о нём другие. Милашевский рассказывал, как в эти годы изрядно подгулявший Юстицкий шумно «выступал» на Тверской, громко и настойчиво требуя: «Дайте мне хоть на пятачок истины».
Он получил её на два «пятачка»: 10 лет лагерей. И, несмотря на настойчивые попытки обжаловать этот жестокий приговор суда, практически весь свой срок он отсидел.
Думается, что Анисимова догадывалась о действительных причинах его ареста: в архиве Третьяковской галереи сохранилось её письмо 1978 года, адресованное М.А. Немировской (авторитетному исследователю художественного наследия группы «13»), где она сообщает сведения о Юстицком: «Отец его был русский дворянин, он был очень крупным юристом в старом Петербурге. Мать была дочерью миллионера Кашина. У них, кажется, был конный завод».
Уже одного этого было в ту пору вполне достаточно, даже если забыть о весьма иронической по отношению к власти раскованности его разговоров.
Но важно в этом письме другое – то, о чём она говорила мне и при личной встрече в Москве: рисунки его были «затруднительны в печати», а насиловать себя, приспосабливаясь к требованиям полиграфии, Юстицкий не желал или, скорее, даже и не мог. Именно это оказалось самым главным в том, что предопределило их печальную судьбу.
Такая позиция художника в мировом искусстве иллюстрации не уникальна, но достаточно редка. В тогдашней жизненной ситуации Валентина Юстицкого она была заведомо обречённой, хотя сама по себе обладала вполне реализуемой, весьма интересной и достаточно перспективой выставочной или чисто альбомной (вне книжного текста) публикацией.
В одной из бесед с Владимиром Милашевским я услышал от него, что книжные иллюстрации трудно давались ему, как и Даниилу Дарану, Татьяне Мавриной и некоторым другим мастерам из группы «13», что успешнее других с этим справлялся Николай Кузьмин.
Эти талантливые рисовальщики охотно избежали бы полиграфии, явно тяготея скорее к станковой форме иллюстрирования, решаемой в самодостаточном, но и достаточно обширном цикле графических листов по мотивам творчества того или иного писателя или поэта.
«Иллюстрация – вовсе не обязательно графический комментарий текста, как полагал известный литературовед Б.В. Томашевский, она может быть и непроизвольным откликом на прочитанное. И достаточно свободным при этом. Всякий рисунок графичен… Но не всякий рисунок нужно считать книжно-графическим, т.е. связанным с природой книги», – справедливо отмечал Эрих Голлербах. Юстицкому был привлекателен именно путь свободного «сопровождающего» литературный текст рисования.
Рассматривать его рисунки лишь в силовом поле стилистики «13»-ти не слишком продуктивно, хотя внешне он близок им, но внутренне гораздо ближе Михаилу Ксенофонтовичу Соколову, мастеру, тоже лишь отчасти сродному рисовальщикам этой группы.
Стилистические устремления этих оригинальных художников в чём-то неуловимо перекликаются. И Михаил Соколов чаще выступал вовсе не как книжный оформитель, а как иллюстратор-станковист, избегающий какой-либо зависимости от издательских требований.
Сродни Юстицкому также импровизационный характер его искусства, устремлённость не столько на выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько на общий эмоционально-стилистический строй поэтического творчества, акцентированная личностность его восприятий текстов и художественной манеры различных авторов. Этих талантливых мастеров роднит и повышенная восприимчивость к разнородным исканиям, органично претворяемым ими в собственную стилистику.
Уже в начале 1929 года в своём выступлении в ГАХНе, посвящённом Михаилу Ксенофонтовичу Соколову, искусствовед Дмитрий Недович проницательно характеризовал такую его особенность: «У Соколова ценно как раз то, что он по-гётевски честный плагиатор. С большой лёгкостью меняя направления, пробуя разные подходы, как будто примеряя разные одежды, – какая больше к лицу, – он всё же внутренне целен и верен себе, постоянен в своём бродяжничестве, и в других ищет себя. И под этой сменой различных манер и костюмов мы угадываем его лицо. Может быть, оно ещё не совсем определилось, не вполне устоялось, но лицо есть, и это существенно важно…»
Совсем как будто о Валентине Юстицком, который оставался собой, пробуя себя на самых разных путях. Казалось бы, следуя определённой чужой стилистике, он делал это всегда своеобразно и по-настоящему талантливо.
Судя по письмам жене, Юстицкий, вероятно, очень верил в возможность реализоваться в качестве успешного книжного иллюстратора. И все данные для этого у него как будто были. Реальность, однако, оказалась не столь лучезарной, как виделось поначалу. Эти его рисунки книжной графикой так и не стали.
Он сделал ряд станковых иллюстраций по мотивам поэзии Владимира Маяковского и экспонировал их на выставке в Центральном парке культуры и отдыха. А затем азартно включился в охватившую едва ли не всю художественную интеллигенцию подготовку к столетнему юбилею гибели А.С. Пушкина.
«Интерпретация поэзии – та же езда в незнаемое» - так переиначил в одной из своих статей определение Владимиром Маяковским самой поэзии вдумчивый и серьёзный художественный критик, много писавший об иллюстрации и иллюстраторах, Эраст Кузнецов.
Это определение можно было бы поставить эпиграфом к любому исследованию иллюстраций поэтического творчества, а к пушкиниане Валентина Юстицкого в первую очередь. Ибо «искушение Пушкиным» захватило его нешуточно. Он нашёл в биографии и в творчестве поэта нечто родственное собственному мироощущению и как бы задорно и весело «аукался» с ним в пространстве и времени.
Пушкинские тексты давали художнику повод и простор для его достаточно произвольных субъективных ассоциаций, право на собственную их графическую трактовку. Это был опыт свободного самовыражения художника, отталкивающегося от восприятия пушкинских строк или повествований о жизни поэта.
Трудно сказать, на что надеялся Юстицкий, затевая этот обширнейший цикл, прямо или косвенно соотнесённый с пушкинской тематикой. Он создал сотни графических листов, распылённых, к сожалению, по нескольким собраниям, что разрушило цельность этого интересно задуманного цикла. Нет уверенности, что всё, что было создано им в эти годы, доступно рассмотрению, а может, не всё и сохранилось.
Обширный, но целостный цикл с вариациями тематически близких листов, исполненный в импровизационно-раскованной манере, но сохраняющий гибкое, живое единство и близость эмоционального звучания, оказался разрозненным. И никто не знает о характере его целостного общего замысла, как и о тщательной продуманности или произвольной случайности в последовательности создания конкретных листов.
Но коллекция, о которой пойдёт речь, насчитывает около двухсот рисунков, подписанных и частично датированных автором. Сопоставляя её с обнародованными листами других собраний, можно попытаться дать взвешенную версию вклада Юстицкого в графическую пушкиниану и вообще в отечественную графику середины 1930-х годов.
Это собрание – часть коллекции живописи и графики Андрея Морозова, проживающего в селении Усть-Курдюм, в окрестностях Саратова. Листы этого цикла, каждый сам по себе, зрелищно привлекательны и интересны.
«Принципы свободного ассоциативного иллюстрирования, которых почти всегда придерживался Матисс, освобождали его от необходимости буквального следования за текстом», – утверждал Юрий Русаков в глубоко продуманном предисловии к каталогу выставки «Анри Матисс, Искусство книги».
Именно такое понимание своей задачи характерно для всего этого обширнейшего цикла графических листов пушкинианы Юстицкого – стремительное и экспрессивное выражение своей реакции на прочитанное лежит в его основе. Рисунки эти свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста, иногда сохраняя сложные ассоциативные связи с ним, а чаще – ритмическое соответствие летучему пушкинскому стиху, его энергии и экспрессии.
Это вольная интерпретация самого духа пушкинского творчества. В станковой самодостаточности этих рисунков (вне их соответствия сюжетике конкретных стихов или прозы), в их стилистическом строе легко угадать самостоятельную графическую ценность свободного и смелого высказывания художника.
Ибо для Юстицкого обращение к Пушкину – не только конъюнктурная (юбилейная) возможность реализации своего творческого потенциала, но и ощущение глубинной ментальной близости их художнических натур.
Порою случается так, что происходит полнейшая несоединимость двух творческих темпераментов, – поэта или прозаика и художника-иллюстратора. Но тут случай удивительного сродства при разной масштабности и размахе творчества. Ибо художнику удалось не столько точное прочтение того или иного теста, как совпадение с Пушкиным по общему эмоциональному строю творчества.
Он ведь и прожил, как говорится «без возраста», т.е. вполне по-пушкински, сохраняя стихийный гедонизм и душевную озорниковатую молодость при подлинной зрелости духовной.
Он и сам удивлялся этому: «Почему я не старею в своих чувствах и переживаниях? Почему до сих пор юная порывистость, жадность к жизни не оставляет меня»? – Взволнованно писал он в самом конце 1939 года Гали Анисимовой из лагеря.
Каждого из них (поэта и художника) отличали порывистая пылкость натуры, поведенческая раскованность, соединённые с трезвой ясностью охлаждённого ума, жизненная беспечность и при этом повышенная жизнестойкость. Порывистый ритм пушкинской повседневной жизни Юстицкий на свой лад варьировал в новых исторических условиях.
«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин…», – писал Александр Блок и добавлял, поясняя: «Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не лёгкая и не весёлая: она трагическая».
Юстицкого роднит с Пушкиным постоянная смешливость, иногда переходящая в едкую насмешливость, что сродни эпиграммам поэта. Им обоим присуще гедонистическое мироощущение, эпикурейское отношение к жизни, обострённый интерес к чувственной её стороне, любовно-ироническое восприятие эротических игр, насмешливое прославление именно природно-плотского начала любви. Оба они ярко выраженные жизнелюбцы.
«Пушкин тем и Пушкин, что граней в нём без числа» (Александр Бенуа). В поэзии, в прозе и в драматургии Пушкин решал весьма различные творческие задачи. Они разнятся стилистически, эмоционально: каждое произведение обладает своей неповторимой интонацией, проникнуто особенным ритмом, но при всём многообразии собственного дарования, поэт всегда оставался только самим собой. Это было предопределено удивительной цельностью его жизненного и творческого мироощущения.
Диапазон творческих исканий каждого – и поэта, и художника достаточно широк. Но многогранность Юстицкого тоже не рушила цельности. Как и Пушкин, он тоже разнообразен, нередко отзвучен, свободно переимчив, легко трансформируя чужое в своё.
Настойчиво повторяю: сопоставляются не масштабы их дарований и не размах творческого воздействия, а лишь особенность ментальности поэта и художника, бесспорно роднящая их. Если Пушкин мог написать Дельвигу: «Я думал стихами», то и Валентин Юстицкий «думал» о поэте, его поэзии, прозе и драматургии, о его биографии своими раскованно-импровизационными рисунками. Мыслил визуальными образами.
«Стихотворениями для глаза» назвал талантливый искусствовед Рудольф Дуганов рисунки Константина Батюшкова. Определение, вполне приложимо к рисункам Юстицкого. Если, согласно Абраму Эфросу, пушкинские рисунки были «изобразительным дневником», то графика этого цикла – тоже своеобразный дневник Юстицкого, графическая запись неотрывных раздумий художника о поэте, его творчестве и его биографии. Роднит их и безудержное стремление к персональной и творческой свободе в годы решительного и ожесточённого на неё наступления самодержавной или тоталитарной власти.
Как и Пушкин, Юстицкий всегда становился душою любой компании, направляя тематику общего разговора, оживляя и обостряя его. Как и Пушкин, он частенько «сыпал остротами», насмешничал над приятелями и коллегами, позволял себе иронизировать и над верховной властью. Словно пушкинское: «Да так, само как-то с языка слетело…», это сродни азартному требованию Юстицким «истины хоть на пятачок».
По воспоминания Н.М. Языкова, на замечание о странном названии – «Московский английский клуб – Пушкин мгновенно назвал как ещё более странное – «императорское человеколюбивое общество», а о Николае I-м заметил: «Хорош, хорош, а на тридцать лет дураков наготовил». Судя по следственному делу Юстицкого, он тоже не слишком почтительно отзывался о советском тиране. Заговорщиками оба они не стали, а остеречься и вовсе прекратить опасно насмешничать, увы, не могли. И это понятно…
Тут снова возникает имя Михаила Соколова. Жена его друга вспоминала, годы спустя, что и этот художник отличался в тот же период «резкими непримиримыми высказываниями о беззакониях в стране». Ведь и он тоже получил свой лагерный срок за осуждающие власть безоглядно откровенные публичные высказывания, «за болтовню», если пользоваться тогдашней расхожей терминологией, утвердившейся в стране на десятилетия.
Это гораздо страшнее, чем ссылка и прочие ограничения поднадзорного Пушкина. Так ведь и статус советских художников был в их эпоху, конечно же, совершено иной, чем у великого поэта, получившего ещё совсем молодым в 1820-е годы широкое общественное признание. Да и времена оказались куда суровей, чем у Пушкина.
Связывает этих художников и кровная привязанность к нему. Юстицкий мог повторить за М. К. Соколовым: «сейчас «волнуюсь» Пушкиным…» Слова эти М. Соколов написал уже из лагеря в 1940-м году. Валентин Юстицкий творчески «взволновался» Пушкиным уже в середине 1930-х, когда широко готовился этот несколько странноватый радостно-траурный юбилей: столетие гибели величайшего российского поэта.
Годом Пушкина был обозначен заклятый 1937-й. Видимо, «отцу народов» срочно нужен был единящий буквально всех, поистине общенародный шумный праздник, хоть как-то отвлекающий от разгула жесточайших репрессий и вызванного ими цепенящего ужаса, охватившего множество советских людей.
Уже в 1936 году развернулась по всей огромной стране интенсивная подготовка к этому «празднеству». Естественно, что она захватила и художников: готовились живописные, скульптурные и графические портреты Пушкина. Особенно активно обсуждались проблемы массового издания его произведений, а также достойного их иллюстрирования.
Любопытно и показательно, что об этом думал и говорил талантливый живописец и график Николай Тырса, выступивший с докладом «Иллюстрация и творчество» в ноябре 1936 года на специально созванном совещании художников, искусствоведов и писателей, посвящённом обсуждению новых иллюстраций ленинградских художников к произведениям великого российского поэта.
Отмечая, что «иллюстраций к Пушкину мало», что он «почти не иллюстрирован», надеясь, что к юбилею их будет гораздо больше, докладчик при этом осуждал попытки пойти по линии вторичных, чисто биографических реалий, когда художники вместо фотокоров паломничают в Михайловское, Тригорское и по прочим пушкинским местам.
Тырса настаивал на необходимости обратиться к существу пушкинского художественного творчества, к необычайно сложным и запутанным проблемам его общественной и частной жизни, передать многозначность энергетически насыщенных пушкинских текстов, раскрывающих точнее всего внутренний образ их автора.
«Почему бы не взяться за само творчество Пушкина? Почему бы не посотрудничать – осмелюсь так выразиться, – с ним, с Пушкиным? Мне кажется, например, что подлинное переживание Пушкина можно получить вместо Михайловского и Тригорского, в томе его писем, в этой замечательной книге, которую держишь в руках, как кровоточащее сердце, и по прочтении которой уже навсегда думаешь о Пушкине, как о родном человеке.
Мне кажется, что весь зрительный материал, который целесообразно складывается в образ, художник впитывает постоянно, а не только тогда, когда срисовывает стул, на котором сидел Пушкин», – говорил он тогда.
«Конечно, иллюстрирование – не пересказ текста. Текст любого автора должен пониматься свободно. (…) Дело не в том, как художник трактовал текст, а вышло ли это художественно, передал ли автор своё отношение к тексту». (….). «Мне кажется, гораздо плодотворнее и ближе к цели вести иллюстрирование Пушкина путём серии рисунков, в которых вдруг где-то может проглянуть подлинный Пушкин».
Трудно сказать, знали ли Валентин Юстицкий или тот же Михаил Соколов эти рассуждения замечательного ленинградского художника. Но, видимо, принципы свободного иллюстрирования по мотивам творчества поэта или писателя были, как говорится, «у времени в крови». Это была эпоха замечательных достижений иллюстрации и одновременно достаточно выраженной тенденции к её «раскнижниванию».
Уже отмечалось рассуждение Ю.А. Русакова о циклах свободных иллюстраций Анри Матисса. Не менее наглядный пример приводит ещё один современный исследователь графики М. Климова, повествуя о творчестве швейцарского мастера Ганса Эрни, который был гораздо моложе не только М.К. Соколова, но и В.М. Юстицкого. Живя и работая в совершенно иных условиях, идеологически куда более комфортных, он, естественно, мог позволить себе быть ещё своевольнее их в обращении с любым текстом.
«От Эрни было бы напрасно требовать буквального и почтительного иллюстрирования книги. Он редко удовлетворялся ролью комментатора – хотя бы и проникновенного – авторского текста. Его привлекает другой тип иллюстрации, существующий на равных правах с текстом. Эрни предпочитает создать цикл, живую последовательность образов, связанных друг с другом теснее, чем с литературным повествованием.
Его иллюстрация не столько воплощает литературный образ средствами пространственного искусства, сколько создаёт ему свободную аналогию. Его рисунки живут сами по себе и вступают в контакт с текстом лишь изредка, когда этого требует логика графического цикла. Но эти мгновенные соприкосновения литературы и графики порой стоят более тесных связей – они вскрывают внутреннее единство текста и рисунков очевиднее, чем это было бы при их непрерывном сочетании».
Часто пишут: имя рек такой-то – художник и человек. О Юстицком следовало бы всегда говорить в обратном порядке: «Человек и художник». Акцентирую именно личные качества его натуры: вне контекста его жизни само творчество Юстицкого-художника не понять. И Пушкина тоже: «Переживания Пушкина-человека оказывали исключительно мощное воздействие на его творчество», – отмечал в своей биографии поэта Ю.М. Лотман.
Творчество того и другого очень разнообразно и вместе с тем удивительно едино. Не случайно оба они исповедовали абсолютную свободу жизненного поведения и – как её результат – полную раскрепощённость творчества.
«Молодость была существом его натуры», – вспоминал о Льве Бруни один из его учеников. Можно повторить это, говоря о Юстицком. Как и у Пушкина, душевная молодость художника затянулась, пожалуй, до самой кончины. Авторская интонация поэта, звучащая в его стихах, – это и собственная его интонация, органически отзвучная поэтовой.
Неведомы его высказывания о Пушкине, но думается, они звучали бы близко к определению М.К. Соколовым своего отношения к поэту, высказанному им поздней осенью 1940 года: «Пушкин – мой любимец, «мой жизненный спутник» и, наконец, Пушкин – моя мера».
Отсюда и погружённость воображения Юстицкого в реалии пушкинской поры, в его поэтику, и своевольная динамичная манера изображения, и сама его ритмика близкая звучанию пушкинских стихов.
Книга Абрама Эфроса о рисунках Пушкина, вышедшая в 1933 году, инспирировала увлечение ряда советских графиков его раскованно-непроизвольной манерой рисунка. Неповторимое обаяние ритмики и стилистики этих как бы случайных перовых набросков оказалось очень заразительным. Широкое распространение в те годы импровизационного и острого перового рисунка непреложно об этом свидетельствует.
Естественно, это сказалось достаточно ярко в иллюстрационной графике пушкинской поэзии: «Думать о пушкинских стихах – значит вызывать в памяти его графику, так же, как рассматривать его рисунки, – значит мыслить о его поэзии», – утверждал Абрам Эфрос.
Это сродство хорошо почувствовал Николай Кузьмин в цикле иллюстраций к пушкинскому роману в стихах: «Дерзновенная мысль проиллюстрировать Евгения Онегина зародилась у меня осенью 1929 года в Саратове, когда я был на курсах переподготовки комсостава. Там, в «военном городке», каждый вечер я уходил в библиотеку и читал «Евгения Онегина». Там-то я прочитал впервые по-настоящему этот роман».
В стремлении этого художника освободиться от наработанных штампов в трактовке романа ему помогали и профессиональные пушкинисты (прежде всего, М.Я. Цявловский), а также публикации В. Вересаева «Пушкин в жизни», Н. Ашукина «Живой Пушкин».
И другие выпускники этой мастерской, как и она, в своих письмах и беседах повествовали также и о неистощимой изобретательности и безупречном вкусе Юстицкого в постановках как учебных натюрмортов, так и живой натуры. Они были изначально ориентированы их наставником на нешаблонное их восприятие, а потому и своеобычность вероятного их воплощения в студенческих работах.
Юстицкий всегда поощрял поиск, настойчиво ратовал за выраженную персональную интонацию каждого студенческого холста, поддерживая именно нестандартные решения, он терпеть не мог равнодушного отношения к работе, всегда стремился ввести своих подопечных в эмоциональное состояние, помогающее раскрыться личному ощущению увиденного.
Хорошо запомнился рассказ одного из учеников Валентина Юстицкого. Когда он увидел, что студент пишет постановку очень вяло, без подъёма, без волнения, он подозвал его, сунул в ладонь трёшницу и сказал: «Сгоняй-ка на вокзал, выпей водки, разбей витрину, убеги от милиционера, а уж потом и становись к мольберту».
Не столь уж простым и цельным был Юстицкий: в нём странным образом сочетались очень различные возможности, по-разному проявлявшиеся в различные времена. И рисовать его благостным и успокоенным не стоит: он бывал и насмешливым, колким и язвительным, порывистым, переимчивым, легко и всегда искренне меняющим свои увлечения.
В Саратове начала 1920-1930-х годов он был одним из самых ярких катализаторов местного художественного процесса, увлечённым поборником любых интересных начинаний, человеком широких, лишённых косности воззрений. Обаяние личности этого художника надолго запомнилось его ученикам.
Юстицкий был человеком достаточно гуманитарно образованным, порою с выраженной склонностью теоретизировать, но импульсивное, чувственное начало явно доминировало в нём над рассудочным, чисто головным. Ему не могли пришпилить кличку «мозговик», как, к примеру, Павлу Кондратьеву.
В нашей интересной и долгой телефонной беседе известный литературовед, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Воронежского университета Анатолий Михайлович Абрамов, которого интересовала проблема соотнесённости стилистики прозы Андрея Платонова и живописи Павла Филонова, неожиданно вспомнил о годах учёбы в Саратовском художественном техникуме.
Он горячо заговорил, о той атмосфере полной раскованности, которая царила в мастерской Юстицкого. Абрамов отмечал важность для всех ребят этой мастерской тех свободных бесед о современном искусстве, в которых ощущалось не только умение транслировать чужие идеи, но и давать им собственную оригинальную огласовку. Юстицкий представлялся ему человеком широко образованным, увлечённым, зажигающим других.
Анатолий Михайлович потом прислал по моей просьбе краткие воспоминания о поре его учёбы, которую пришлось оставить из-за аллергии на краски. Приложил к ним биографическое стихотворение «Дорога», где есть и строки, посвящённые своим педагогам:
«А Саратов? Разве я забуду,
Сколько я в душе понёс оттуда?
Я не знал, бывало, года сытого,
Но не раз Юстицкий и Мельситова
(Музыка их душ во мне звенит)
Будто поднимали нас в зенит».
Рядом с живописцем Юстицким он называет филолога Варвару Терентьевну Мельситову – талантливого и увлечённого преподавателя русского языка и литературы, замечательные уроки которой, предопределили его будущую литературоведческую карьеру.
Это не случайно. В телефонной беседе профессор акцентировал серьёзный гуманитарный потенциал Валентина Михайловича Юстицкого, заметно выделяющий его среди других педагогов, высокий уровень его общекультурного кругозора.
Двадцатые годы – наиболее счастливая пора в жизни и творчестве Юстицкого. К середине 1920-х наметился, быть может, вынужденный поворот художника к бытовому жанру, к той тематике, которая получит развитие в полотнах ближе к середине 1930-х годов.
Если об этих несохранившихся жанровых картинах можно предположительно судить как о тенденциях, реализовавшихся уже в последующее десятилетие, то о грандиозном заказном портрете Ленина, экспонировавшемся на выставке в 1925-м году, приходится говорить лишь на основании беглых упоминаний в прессе и рассказам его младших коллег. Единственное, что совершенно очевидно: к такого рода «социальному заказу» в ту пору относились совсем иначе, чем спустя десятилетие.
Вместе с другими саратовскими мастерами Юстицкий участвовал на ряде столичных выставок. На седьмой выставке АХРРа он представил типажный портрет немца-колониста, интерьер и ряд пейзажей.
Привлекательнее для него было участие в экспозициях объединения «4 искусства», где ему, если верить В.А. Милашевскому, охотно покровительствовал Павел Варфоломеевич Кузнецов. Он выставлял там и пейзажи (на выставке 1926 и 1928 года), и жанровые композиции: «Рыбаки», «Девушки с сетями» (в 1929 году).
Но, быть может, гораздо важнее именно для понимания значения рисунка в творчестве этого художника является его участие графическими листами в выставке группы «13», открывшейся в феврале 1929 года. Ибо в общем контексте его творчества различные виды графики явно преобладают.
Инициаторами этой творческой группировки стали бывшие саратовцы, известные рисовальщики – Владимир Милашевский, Даниил Даран и косвенно связанный с этим городом Николай Кузьмин.
Участие Юстицкого на первой выставке группы «13» её признанный лидер и теоретик В.А. Милашевский объяснял следующим образом: «И, наконец, под номером 13 – Юстицкий. Наш с Дараном знакомый по Саратову. Он привёз в Москву показать своё масло. Очень сумбурное, очень модное, псевдопарижское и по-настоящему провинциальное. Ни следа жизни, ни следа наблюдения. Я запротестовал. Менее всего я хотел сколачивать группу «слов модных полный лексикон», выставку пародий.
Ловкий Юстицкий бросил своё велеречивое масло и сделал несколько лошадок. Они тоже фальшивы и поддельны, но так и быть, по крайней мере, они легки и коротки. Не скучны. И даже обманули Терновца, как потом оказалось».
Впрочем, персональное своеобразие каждого из группы «13» тоже не совсем укладывалось в жёсткие рамки исходной доктрины Милашевского. А выставленные там «Скачки» Юстицкого действительно удивляют цепкостью памяти художника, захватывают маэстрийной лёгкостью и раскованной виртуозностью исполнения.
Язвительный Милашевский, культивировавший темповое рисование с натуры, всегда настороженно относился к вольным импровизациям на заданную тему, сколь виртуозными они ни были бы. Но именно такого рода рисунки Юстицкого, мастерски варьировавшего подобные мотивы, поражали тогда воображение многих молодых художников.
Об этом восторженно рассказывал мне в своей мастерской в Волгограде один из его учеников Алексей Иванович Бородин.
О том же вспоминала в адресованном мне письме художница Галина Гавриловна Пелевина (жена Фёдора Русецкого): «Мне посчастливилось наблюдать за его работой в 1930-м году: он делал моментальные рисунки углем на 1/4 листа ватмана у нас дома. Процесс работы запомнился на всю жизнь.
Тема: скачки, лошади и всадники. Юстицкий, подойдя к столу, стремительно рисовал лошадей и всадников, отбрасывал лист и тут же брался за следующий, предварительно отступив, «отбежав» от стола шага на два. Наброски полны движения. Какой это был великолепный рисовальщик! И какая трудная судьба!»
Стремление к максимальному динамизму характерно и для других рисунков Юстицкого – стремительных набросков, ухватывающих буквально «на лету» всё увиденное, сохраняющих трепетность самой жизни. Иногда натурность их имитированная: немало рисунков чисто импровизационных, в которых острота восприятия подменяется остротой подачи.
Но если в изображении скачек художник ищет графическую формулу стремительного движения, то другие рисунки, не скованные определённой задачей, лишены этой лапидарной чёткости линий. В них больше свободы, импульсивного самовыражения художника, его творческой фантазии.
Одна из статей Юрия Яковлевича Герчука, глубокого знатока искусства графики, называется «Стихия рисунка». О графике Валентина Юстицкого можно было бы сказать немного иначе: «стихия импровизационного рисунка».
Юстицкому присуща была настоящая одержимость рисованием. По воспоминаниям Музы Александровны Егоровой (Троицкой) он с Евгением Егоровым культивировали как жизненный принцип постоянный и упорный тренаж руки и глаза, рисуя так называемые «croqis» (кроки) – мелькающие пейзажи, цирковые репетиции, воображаемые образы, овладевая предельно лапидарной и экспрессивной манерой.
Это как раз то самое динамичное видение, которое питает стилевую энергию. Беглый набросок с мотива, как бы случайно, буквально на лету увиденного и схваченного, у них вовсе не был подсобным материалом, а именно самостоятельным законченным произведением.
Увлечение виртуозным набросочным рисунком сохранилось у него навсегда, как и импровизационная манера исполнения и выработанная отточенность графической формы этих мгновенных и как бы мимолётных его набросков. Отсюда их внутренняя напряжённость при видимой лёгкости.
У Юстицкого к началу 1930-х годов давно уже был выработан свой графический почерк: его подвижная и гибкая линия живо передаёт эмоциональные реакции художника.
И вполне понятна реакция Б.Н. Терновца на его «Скачки» в предисловии к каталогу выставки «13»: «Этюды скачек Юстицкого – проблемы передачи движения, увлекавшие когда-то Дега, и не перестающие волновать современных художников».
Вызревшая к началу 1930-х ситуация в социально-политической и художественной жизни страны оказалась крайне неблагоприятной для мастеров такого плана. Поворот к бытовому жанру, к портрету и пейзажу, обозначившийся в его живописи середины 1920-х годов, получил развитие в известных нам его полотнах середины 1930-х: «Рыбаки», «Пейзаж» и недавно подаренный Радищевскому музею Владимиром Спиваковым эффектный женский портрет «Печальная муза».
По сохранившимся фотографиям известны и несколько иные работы этого времени: портрет известного тогда саратовского врача Махлина, масштабный и острый по композиции фантазийный индустриальный пейзаж и «Шуцбундовцы» (1934).
Последняя картина – оперативный отклик на политическую злобу дня: в феврале 1934 года в Вене шли бои – отряды шуцбунда (соцдемократического союза) отказались разоружиться. Войска и полиция начали осаду кварталов, занятых ими. Часть их отступила в Чехословакию, а захваченных руководителей повесили.
Форсированная, почти плакатная экспрессия этой картины, судя по фотографии, перекликалась с исканиями той группы живописцев ОСТа, которая явно ориентировалась на эстетические принципы немецкого экспрессионизма, хорошо знакомые Валентину Юстицкому и в чём-то близкие ему. Но судить по тоновому снимку можно только о характере композиции и пластике, но никак не о колорите.
К этому моменту ситуация в Саратове стала для Юстицкого крайне неблагоприятной. Уже с рубежа 1920-1930-х годов, в пору так называемого «Великого перелома», обозначились заметные перемены в методах и стиле руководства тоталитарной властью всей духовной жизнью страны.
В провинции это принимало особенно жёсткие и часто нелепые формы. Существенно изменились порядки в художественном техникуме. Они привели к «исходу» наиболее образованных и талантливых педагогов, пытавшихся посильно противостоять административному нажиму партийных демагогов, настойчиво проводивших линию тотальной идеологизации учебного процесса, подчиняя его конъюнктурным задачам текущего момента. Вслед за ними потянулись в столицы и наиболее перспективные выпускники и даже одаренные и творчески активные студенты.
Юстицкий продержался дольше других, но и он в 1935-м году вынужден был покинуть Саратов, пытаясь как-то закрепиться в Москве. В московский период в силу специфичности весьма стеснённого Каширского быта рисунок поневоле стал играть основную роль в его искусстве. И вообще графическое наследие всех этапов его творчества очень обширно и весьма разнообразно, но пока, к сожалению, недостаточно изучено.
Книжная графика Юстицкого осталась нереализованной: любая регламентация его визуального прочтения текста казалась ему унизительной, и он отказывался менять что-либо. Для него как будто не существовали незыблемые правила: как и Пушкин, он был по природе своей адогматичен. Простой и терпимый в общении и в быту, он был весьма амбициозен и абсолютно несговорчив в вопросах творческих.
Сохранились об этом времени воспоминания его ученицы и близкой подруги той поры Гали Анисимовой: «Московский его период был трагичен. Он сильно пил и потому мало работал. Да и работать было негде, так как приходилось жить за сто километров от Москвы в Кашире.
Всё же в этот период он получил интересный заказ в издательстве «Асаdemia». Иллюстрировал он две вещи французских авторов: Золя «Деньги» и А. Франса «Суждения аббата Жерома Куньяра». Это очень трудная вещь с отсутствием фабулы. Но Валентин Михайлович справился с ней блестяще. Я помогала ему в этих работах.
Рисунки В.М. были очень своеобразны и остры, но затруднительны в печати. На просьбы упростить рисунки для печати В.М. отвечал: «Я – Юстицкий, если вам это не походит, возьмите другого художника». Юстицкий никогда не шёл на компромисс.
Работы эти закончились трагедией. Он был арестован, и иллюстрации эти не были напечатаны. Где они сейчас я не знаю. После его ареста я пыталась создать его словесный портрет стихами. Я не поэтесса, и потому привожу эти стихи только как сжатую характеристику этого человека. Так, как я его понимаю:
«По старым улицам Каширы
Шагает странный человек:
На сапогах, на шубе дыры,
Но утончённый древний грек
Так не носил свои одежды.
В глазах каширского невежды
Сей человек и прост и мил
Тем, что подвыпить он любил,
Что не обидел он собаки,
Не принимал участья в драке,
С народом ласков был и мил,
А сильным мира не кадил.
Он плакал на чужих могилах,
С мальчишками в войну играл,
Искал он ангелов бескрылых
И в Мире Совести искал».
Этот благостный облик задиристого художника, который рисуется влюблённой в него ученице, весьма отличается от того, как вспоминали о нём другие. Милашевский рассказывал, как в эти годы изрядно подгулявший Юстицкий шумно «выступал» на Тверской, громко и настойчиво требуя: «Дайте мне хоть на пятачок истины».
Он получил её на два «пятачка»: 10 лет лагерей. И, несмотря на настойчивые попытки обжаловать этот жестокий приговор суда, практически весь свой срок он отсидел.
Думается, что Анисимова догадывалась о действительных причинах его ареста: в архиве Третьяковской галереи сохранилось её письмо 1978 года, адресованное М.А. Немировской (авторитетному исследователю художественного наследия группы «13»), где она сообщает сведения о Юстицком: «Отец его был русский дворянин, он был очень крупным юристом в старом Петербурге. Мать была дочерью миллионера Кашина. У них, кажется, был конный завод».
Уже одного этого было в ту пору вполне достаточно, даже если забыть о весьма иронической по отношению к власти раскованности его разговоров.
Но важно в этом письме другое – то, о чём она говорила мне и при личной встрече в Москве: рисунки его были «затруднительны в печати», а насиловать себя, приспосабливаясь к требованиям полиграфии, Юстицкий не желал или, скорее, даже и не мог. Именно это оказалось самым главным в том, что предопределило их печальную судьбу.
Такая позиция художника в мировом искусстве иллюстрации не уникальна, но достаточно редка. В тогдашней жизненной ситуации Валентина Юстицкого она была заведомо обречённой, хотя сама по себе обладала вполне реализуемой, весьма интересной и достаточно перспективой выставочной или чисто альбомной (вне книжного текста) публикацией.
В одной из бесед с Владимиром Милашевским я услышал от него, что книжные иллюстрации трудно давались ему, как и Даниилу Дарану, Татьяне Мавриной и некоторым другим мастерам из группы «13», что успешнее других с этим справлялся Николай Кузьмин.
Эти талантливые рисовальщики охотно избежали бы полиграфии, явно тяготея скорее к станковой форме иллюстрирования, решаемой в самодостаточном, но и достаточно обширном цикле графических листов по мотивам творчества того или иного писателя или поэта.
«Иллюстрация – вовсе не обязательно графический комментарий текста, как полагал известный литературовед Б.В. Томашевский, она может быть и непроизвольным откликом на прочитанное. И достаточно свободным при этом. Всякий рисунок графичен… Но не всякий рисунок нужно считать книжно-графическим, т.е. связанным с природой книги», – справедливо отмечал Эрих Голлербах. Юстицкому был привлекателен именно путь свободного «сопровождающего» литературный текст рисования.
Рассматривать его рисунки лишь в силовом поле стилистики «13»-ти не слишком продуктивно, хотя внешне он близок им, но внутренне гораздо ближе Михаилу Ксенофонтовичу Соколову, мастеру, тоже лишь отчасти сродному рисовальщикам этой группы.
Стилистические устремления этих оригинальных художников в чём-то неуловимо перекликаются. И Михаил Соколов чаще выступал вовсе не как книжный оформитель, а как иллюстратор-станковист, избегающий какой-либо зависимости от издательских требований.
Сродни Юстицкому также импровизационный характер его искусства, устремлённость не столько на выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько на общий эмоционально-стилистический строй поэтического творчества, акцентированная личностность его восприятий текстов и художественной манеры различных авторов. Этих талантливых мастеров роднит и повышенная восприимчивость к разнородным исканиям, органично претворяемым ими в собственную стилистику.
Уже в начале 1929 года в своём выступлении в ГАХНе, посвящённом Михаилу Ксенофонтовичу Соколову, искусствовед Дмитрий Недович проницательно характеризовал такую его особенность: «У Соколова ценно как раз то, что он по-гётевски честный плагиатор. С большой лёгкостью меняя направления, пробуя разные подходы, как будто примеряя разные одежды, – какая больше к лицу, – он всё же внутренне целен и верен себе, постоянен в своём бродяжничестве, и в других ищет себя. И под этой сменой различных манер и костюмов мы угадываем его лицо. Может быть, оно ещё не совсем определилось, не вполне устоялось, но лицо есть, и это существенно важно…»
Совсем как будто о Валентине Юстицком, который оставался собой, пробуя себя на самых разных путях. Казалось бы, следуя определённой чужой стилистике, он делал это всегда своеобразно и по-настоящему талантливо.
Судя по письмам жене, Юстицкий, вероятно, очень верил в возможность реализоваться в качестве успешного книжного иллюстратора. И все данные для этого у него как будто были. Реальность, однако, оказалась не столь лучезарной, как виделось поначалу. Эти его рисунки книжной графикой так и не стали.
Он сделал ряд станковых иллюстраций по мотивам поэзии Владимира Маяковского и экспонировал их на выставке в Центральном парке культуры и отдыха. А затем азартно включился в охватившую едва ли не всю художественную интеллигенцию подготовку к столетнему юбилею гибели А.С. Пушкина.
«Интерпретация поэзии – та же езда в незнаемое» - так переиначил в одной из своих статей определение Владимиром Маяковским самой поэзии вдумчивый и серьёзный художественный критик, много писавший об иллюстрации и иллюстраторах, Эраст Кузнецов.
Это определение можно было бы поставить эпиграфом к любому исследованию иллюстраций поэтического творчества, а к пушкиниане Валентина Юстицкого в первую очередь. Ибо «искушение Пушкиным» захватило его нешуточно. Он нашёл в биографии и в творчестве поэта нечто родственное собственному мироощущению и как бы задорно и весело «аукался» с ним в пространстве и времени.
Пушкинские тексты давали художнику повод и простор для его достаточно произвольных субъективных ассоциаций, право на собственную их графическую трактовку. Это был опыт свободного самовыражения художника, отталкивающегося от восприятия пушкинских строк или повествований о жизни поэта.
Трудно сказать, на что надеялся Юстицкий, затевая этот обширнейший цикл, прямо или косвенно соотнесённый с пушкинской тематикой. Он создал сотни графических листов, распылённых, к сожалению, по нескольким собраниям, что разрушило цельность этого интересно задуманного цикла. Нет уверенности, что всё, что было создано им в эти годы, доступно рассмотрению, а может, не всё и сохранилось.
Обширный, но целостный цикл с вариациями тематически близких листов, исполненный в импровизационно-раскованной манере, но сохраняющий гибкое, живое единство и близость эмоционального звучания, оказался разрозненным. И никто не знает о характере его целостного общего замысла, как и о тщательной продуманности или произвольной случайности в последовательности создания конкретных листов.
Но коллекция, о которой пойдёт речь, насчитывает около двухсот рисунков, подписанных и частично датированных автором. Сопоставляя её с обнародованными листами других собраний, можно попытаться дать взвешенную версию вклада Юстицкого в графическую пушкиниану и вообще в отечественную графику середины 1930-х годов.
Это собрание – часть коллекции живописи и графики Андрея Морозова, проживающего в селении Усть-Курдюм, в окрестностях Саратова. Листы этого цикла, каждый сам по себе, зрелищно привлекательны и интересны.
«Принципы свободного ассоциативного иллюстрирования, которых почти всегда придерживался Матисс, освобождали его от необходимости буквального следования за текстом», – утверждал Юрий Русаков в глубоко продуманном предисловии к каталогу выставки «Анри Матисс, Искусство книги».
Именно такое понимание своей задачи характерно для всего этого обширнейшего цикла графических листов пушкинианы Юстицкого – стремительное и экспрессивное выражение своей реакции на прочитанное лежит в его основе. Рисунки эти свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста, иногда сохраняя сложные ассоциативные связи с ним, а чаще – ритмическое соответствие летучему пушкинскому стиху, его энергии и экспрессии.
Это вольная интерпретация самого духа пушкинского творчества. В станковой самодостаточности этих рисунков (вне их соответствия сюжетике конкретных стихов или прозы), в их стилистическом строе легко угадать самостоятельную графическую ценность свободного и смелого высказывания художника.
Ибо для Юстицкого обращение к Пушкину – не только конъюнктурная (юбилейная) возможность реализации своего творческого потенциала, но и ощущение глубинной ментальной близости их художнических натур.
Порою случается так, что происходит полнейшая несоединимость двух творческих темпераментов, – поэта или прозаика и художника-иллюстратора. Но тут случай удивительного сродства при разной масштабности и размахе творчества. Ибо художнику удалось не столько точное прочтение того или иного теста, как совпадение с Пушкиным по общему эмоциональному строю творчества.
Он ведь и прожил, как говорится «без возраста», т.е. вполне по-пушкински, сохраняя стихийный гедонизм и душевную озорниковатую молодость при подлинной зрелости духовной.
Он и сам удивлялся этому: «Почему я не старею в своих чувствах и переживаниях? Почему до сих пор юная порывистость, жадность к жизни не оставляет меня»? – Взволнованно писал он в самом конце 1939 года Гали Анисимовой из лагеря.
Каждого из них (поэта и художника) отличали порывистая пылкость натуры, поведенческая раскованность, соединённые с трезвой ясностью охлаждённого ума, жизненная беспечность и при этом повышенная жизнестойкость. Порывистый ритм пушкинской повседневной жизни Юстицкий на свой лад варьировал в новых исторических условиях.
«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин…», – писал Александр Блок и добавлял, поясняя: «Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не лёгкая и не весёлая: она трагическая».
Юстицкого роднит с Пушкиным постоянная смешливость, иногда переходящая в едкую насмешливость, что сродни эпиграммам поэта. Им обоим присуще гедонистическое мироощущение, эпикурейское отношение к жизни, обострённый интерес к чувственной её стороне, любовно-ироническое восприятие эротических игр, насмешливое прославление именно природно-плотского начала любви. Оба они ярко выраженные жизнелюбцы.
«Пушкин тем и Пушкин, что граней в нём без числа» (Александр Бенуа). В поэзии, в прозе и в драматургии Пушкин решал весьма различные творческие задачи. Они разнятся стилистически, эмоционально: каждое произведение обладает своей неповторимой интонацией, проникнуто особенным ритмом, но при всём многообразии собственного дарования, поэт всегда оставался только самим собой. Это было предопределено удивительной цельностью его жизненного и творческого мироощущения.
Диапазон творческих исканий каждого – и поэта, и художника достаточно широк. Но многогранность Юстицкого тоже не рушила цельности. Как и Пушкин, он тоже разнообразен, нередко отзвучен, свободно переимчив, легко трансформируя чужое в своё.
Настойчиво повторяю: сопоставляются не масштабы их дарований и не размах творческого воздействия, а лишь особенность ментальности поэта и художника, бесспорно роднящая их. Если Пушкин мог написать Дельвигу: «Я думал стихами», то и Валентин Юстицкий «думал» о поэте, его поэзии, прозе и драматургии, о его биографии своими раскованно-импровизационными рисунками. Мыслил визуальными образами.
«Стихотворениями для глаза» назвал талантливый искусствовед Рудольф Дуганов рисунки Константина Батюшкова. Определение, вполне приложимо к рисункам Юстицкого. Если, согласно Абраму Эфросу, пушкинские рисунки были «изобразительным дневником», то графика этого цикла – тоже своеобразный дневник Юстицкого, графическая запись неотрывных раздумий художника о поэте, его творчестве и его биографии. Роднит их и безудержное стремление к персональной и творческой свободе в годы решительного и ожесточённого на неё наступления самодержавной или тоталитарной власти.
Как и Пушкин, Юстицкий всегда становился душою любой компании, направляя тематику общего разговора, оживляя и обостряя его. Как и Пушкин, он частенько «сыпал остротами», насмешничал над приятелями и коллегами, позволял себе иронизировать и над верховной властью. Словно пушкинское: «Да так, само как-то с языка слетело…», это сродни азартному требованию Юстицким «истины хоть на пятачок».
По воспоминания Н.М. Языкова, на замечание о странном названии – «Московский английский клуб – Пушкин мгновенно назвал как ещё более странное – «императорское человеколюбивое общество», а о Николае I-м заметил: «Хорош, хорош, а на тридцать лет дураков наготовил». Судя по следственному делу Юстицкого, он тоже не слишком почтительно отзывался о советском тиране. Заговорщиками оба они не стали, а остеречься и вовсе прекратить опасно насмешничать, увы, не могли. И это понятно…
Тут снова возникает имя Михаила Соколова. Жена его друга вспоминала, годы спустя, что и этот художник отличался в тот же период «резкими непримиримыми высказываниями о беззакониях в стране». Ведь и он тоже получил свой лагерный срок за осуждающие власть безоглядно откровенные публичные высказывания, «за болтовню», если пользоваться тогдашней расхожей терминологией, утвердившейся в стране на десятилетия.
Это гораздо страшнее, чем ссылка и прочие ограничения поднадзорного Пушкина. Так ведь и статус советских художников был в их эпоху, конечно же, совершено иной, чем у великого поэта, получившего ещё совсем молодым в 1820-е годы широкое общественное признание. Да и времена оказались куда суровей, чем у Пушкина.
Связывает этих художников и кровная привязанность к нему. Юстицкий мог повторить за М. К. Соколовым: «сейчас «волнуюсь» Пушкиным…» Слова эти М. Соколов написал уже из лагеря в 1940-м году. Валентин Юстицкий творчески «взволновался» Пушкиным уже в середине 1930-х, когда широко готовился этот несколько странноватый радостно-траурный юбилей: столетие гибели величайшего российского поэта.
Годом Пушкина был обозначен заклятый 1937-й. Видимо, «отцу народов» срочно нужен был единящий буквально всех, поистине общенародный шумный праздник, хоть как-то отвлекающий от разгула жесточайших репрессий и вызванного ими цепенящего ужаса, охватившего множество советских людей.
Уже в 1936 году развернулась по всей огромной стране интенсивная подготовка к этому «празднеству». Естественно, что она захватила и художников: готовились живописные, скульптурные и графические портреты Пушкина. Особенно активно обсуждались проблемы массового издания его произведений, а также достойного их иллюстрирования.
Любопытно и показательно, что об этом думал и говорил талантливый живописец и график Николай Тырса, выступивший с докладом «Иллюстрация и творчество» в ноябре 1936 года на специально созванном совещании художников, искусствоведов и писателей, посвящённом обсуждению новых иллюстраций ленинградских художников к произведениям великого российского поэта.
Отмечая, что «иллюстраций к Пушкину мало», что он «почти не иллюстрирован», надеясь, что к юбилею их будет гораздо больше, докладчик при этом осуждал попытки пойти по линии вторичных, чисто биографических реалий, когда художники вместо фотокоров паломничают в Михайловское, Тригорское и по прочим пушкинским местам.
Тырса настаивал на необходимости обратиться к существу пушкинского художественного творчества, к необычайно сложным и запутанным проблемам его общественной и частной жизни, передать многозначность энергетически насыщенных пушкинских текстов, раскрывающих точнее всего внутренний образ их автора.
«Почему бы не взяться за само творчество Пушкина? Почему бы не посотрудничать – осмелюсь так выразиться, – с ним, с Пушкиным? Мне кажется, например, что подлинное переживание Пушкина можно получить вместо Михайловского и Тригорского, в томе его писем, в этой замечательной книге, которую держишь в руках, как кровоточащее сердце, и по прочтении которой уже навсегда думаешь о Пушкине, как о родном человеке.
Мне кажется, что весь зрительный материал, который целесообразно складывается в образ, художник впитывает постоянно, а не только тогда, когда срисовывает стул, на котором сидел Пушкин», – говорил он тогда.
«Конечно, иллюстрирование – не пересказ текста. Текст любого автора должен пониматься свободно. (…) Дело не в том, как художник трактовал текст, а вышло ли это художественно, передал ли автор своё отношение к тексту». (….). «Мне кажется, гораздо плодотворнее и ближе к цели вести иллюстрирование Пушкина путём серии рисунков, в которых вдруг где-то может проглянуть подлинный Пушкин».
Трудно сказать, знали ли Валентин Юстицкий или тот же Михаил Соколов эти рассуждения замечательного ленинградского художника. Но, видимо, принципы свободного иллюстрирования по мотивам творчества поэта или писателя были, как говорится, «у времени в крови». Это была эпоха замечательных достижений иллюстрации и одновременно достаточно выраженной тенденции к её «раскнижниванию».
Уже отмечалось рассуждение Ю.А. Русакова о циклах свободных иллюстраций Анри Матисса. Не менее наглядный пример приводит ещё один современный исследователь графики М. Климова, повествуя о творчестве швейцарского мастера Ганса Эрни, который был гораздо моложе не только М.К. Соколова, но и В.М. Юстицкого. Живя и работая в совершенно иных условиях, идеологически куда более комфортных, он, естественно, мог позволить себе быть ещё своевольнее их в обращении с любым текстом.
«От Эрни было бы напрасно требовать буквального и почтительного иллюстрирования книги. Он редко удовлетворялся ролью комментатора – хотя бы и проникновенного – авторского текста. Его привлекает другой тип иллюстрации, существующий на равных правах с текстом. Эрни предпочитает создать цикл, живую последовательность образов, связанных друг с другом теснее, чем с литературным повествованием.
Его иллюстрация не столько воплощает литературный образ средствами пространственного искусства, сколько создаёт ему свободную аналогию. Его рисунки живут сами по себе и вступают в контакт с текстом лишь изредка, когда этого требует логика графического цикла. Но эти мгновенные соприкосновения литературы и графики порой стоят более тесных связей – они вскрывают внутреннее единство текста и рисунков очевиднее, чем это было бы при их непрерывном сочетании».
Часто пишут: имя рек такой-то – художник и человек. О Юстицком следовало бы всегда говорить в обратном порядке: «Человек и художник». Акцентирую именно личные качества его натуры: вне контекста его жизни само творчество Юстицкого-художника не понять. И Пушкина тоже: «Переживания Пушкина-человека оказывали исключительно мощное воздействие на его творчество», – отмечал в своей биографии поэта Ю.М. Лотман.
Творчество того и другого очень разнообразно и вместе с тем удивительно едино. Не случайно оба они исповедовали абсолютную свободу жизненного поведения и – как её результат – полную раскрепощённость творчества.
«Молодость была существом его натуры», – вспоминал о Льве Бруни один из его учеников. Можно повторить это, говоря о Юстицком. Как и у Пушкина, душевная молодость художника затянулась, пожалуй, до самой кончины. Авторская интонация поэта, звучащая в его стихах, – это и собственная его интонация, органически отзвучная поэтовой.
Неведомы его высказывания о Пушкине, но думается, они звучали бы близко к определению М.К. Соколовым своего отношения к поэту, высказанному им поздней осенью 1940 года: «Пушкин – мой любимец, «мой жизненный спутник» и, наконец, Пушкин – моя мера».
Отсюда и погружённость воображения Юстицкого в реалии пушкинской поры, в его поэтику, и своевольная динамичная манера изображения, и сама его ритмика близкая звучанию пушкинских стихов.
Книга Абрама Эфроса о рисунках Пушкина, вышедшая в 1933 году, инспирировала увлечение ряда советских графиков его раскованно-непроизвольной манерой рисунка. Неповторимое обаяние ритмики и стилистики этих как бы случайных перовых набросков оказалось очень заразительным. Широкое распространение в те годы импровизационного и острого перового рисунка непреложно об этом свидетельствует.
Естественно, это сказалось достаточно ярко в иллюстрационной графике пушкинской поэзии: «Думать о пушкинских стихах – значит вызывать в памяти его графику, так же, как рассматривать его рисунки, – значит мыслить о его поэзии», – утверждал Абрам Эфрос.
Это сродство хорошо почувствовал Николай Кузьмин в цикле иллюстраций к пушкинскому роману в стихах: «Дерзновенная мысль проиллюстрировать Евгения Онегина зародилась у меня осенью 1929 года в Саратове, когда я был на курсах переподготовки комсостава. Там, в «военном городке», каждый вечер я уходил в библиотеку и читал «Евгения Онегина». Там-то я прочитал впервые по-настоящему этот роман».
В стремлении этого художника освободиться от наработанных штампов в трактовке романа ему помогали и профессиональные пушкинисты (прежде всего, М.Я. Цявловский), а также публикации В. Вересаева «Пушкин в жизни», Н. Ашукина «Живой Пушкин».
Сознательно или нет, но он не упомянул, ни книгу Абрама Эфроса, ориентирующую его на стилистику пушкинского рисунка, ни подсказку своего приятеля Владимира Милашевского – иллюстрировать именно лирические отступления. Впрочем, и книга Абрама Эфроса, и идея Владимира Милашевского возникли несколько позднее, когда работа над циклом иллюстраций к стихотворному роману уже шла.
И к тому времени художнику, по его словам, уже открылся автобиографический смысл многих строк пушкинского романа, а потому и обращение к рисункам поэта, и к его лирическим отступлениям, занимающим в нём очень уж значительное место, обрели для иллюстратора особое значение.
Они помогали вернее передать и душевно-духовный склад Пушкина, приблизиться к стилистике и ритмике его поэзии и графики. Не зря бытует представление, что главным героем этого стихотворного романа стал сам его автор.
Художников-иллюстраторов нередко сравнивают с музыкантами-исполнителями, с переводчиками поэзии и прозы, ибо у всех них стоит проблема художественной интерпретации творчества других авторов.
Здесь уместно вспомнить размышление Корнея Чуковского о незыблемых принципах художественного перевода: «Отражение личности писателя в языке его произведений и называется его индивидуальным стилем, присущим ему одному. Поэтому я и говорю, что, исказив его стиль, мы тем самым исказили его лицо».
Говоря о «языке», следует трактовать это понятие не как просто обыденную речь, но и как темп её и ритм, эмоциональную окраску, потенциональную метафоричность и символику, то есть понимать его не только в качестве орудия повседневного общения, а именно как язык искусства. И не случайно книга о работе переводчиков названа им «Высокое искусство». Творчество талантливых иллюстраторов тоже вполне заслуживает такого признания.
Но тот же самый К.И. Чуковский одну из глав этой книги озаглавил: «Перевод – это автопортрет переводчика». Так и иллюстратор, стремясь не исказить творческую личность писателя или поэта, не должен прятать и собственное своё художническое лицо.
Именно это отличало творческую манеру Юстицкого, который при всей своей отзывчивости и восприимчивости к чужому творчеству всегда был обострённо-субъективным в случаях претворения его в творчестве собственном.
Это всегда было «сотворческое сопереживание», если воспользоваться терминологией Михаила Бахтина. Его раскованная и дерзкая фантазия была сродни абсолютно ничем не скованной пушкинской свободе воображения.
Однако, как художник острой наблюдательности, он и в фантазиях своих верен увиденному и запомнившемуся. Этого требовала передача особенностей образности вербальной образностью визуальной с её наглядной, осязаемой глазом конкретикой.
Визуальные параллели вербальным образам и не могут быть буквальными. Художник интерпретирует, сообразуясь с природой своего искусства, его возможностями: далеко не всё, что можно прочесть, легко, сделать зримым. Важнее сродство с духом и стилистикой текста, их убедительная графическая интерпретация, ощущение эмоциональной ауры текста.
Н.В. Кузьмин писал вполне справедливо: «Тридцатые годы, предшествовавшие 1937-му юбилейному пушкинскому году, были отмечены особым подъёмом в нашем пушкиноведении. Нет нужды припоминать все названия вышедших тогда посвящённых пушкинской теме книг, статей, рассказов, фильмов, картин, рисунков, – многие из этих трудов вошли в Золотой фонд нашей культуры».
К нему постепенно приобщается и графическая пушкиниана Юстицкого. Но, как уже отмечалось, это осложнено тем, что обширнейший цикл его пушкинских рисунков распылён по различным коллекциям и, вероятно, не все они уже обнародованы и доступны обозрению. Всё же, относительная полнота их, сосредоточенная в коллекции А.С. Морозова, о которой уже шла речь, позволяет сделать некоторые предварительные предположения.
Говорилось также и о том, что на многих рисовальщиков и не только иллюстраторов Пушкина, начиная с середины 1930-х годов, оказали существенное воздействие опубликованные рисунки великого поэта с его черновиков.
Глубокий и проникновенный исследователь пушкинской графики Абрам Эфрос, искренне восхищённый «летучими» рисунками поэта, писал: «В его рисунках не было ничего принудительного и важного (…) Они обладали лёгкостью внезапной игры пера и воображения…» «Он рисовал, в самом деле, легко и бездумно. Он рисовал беззаботно. Он рисовал, как хотел бы писать. Он не усердствовал, не искал, не отделывал».
Прямая перекличка с ними в графике Валентина Юстицкого. Он вовсе не имитирует пушкинский рисунок буквально, не копирует его графические приёмы, но в своём рисовании внутренним строем близок рисункам поэта глубинным родством подхода. Как и у Пушкина, его пером двигало раскованное воображение – «желаний своевольных рой», и они тоже – результат спонтанного творческого порыва – стремительно динамичные.
Или опять же по-пушкински, оставляющие впечатление полнейшей непроизвольности выплеска внезапных мыслей, эмоций, которые имеют характер непринуждённой импровизации: «небрежный плод моих забав…» И Юстицкий тоже «не усердствовал», а рисовал совсем по-пушкински, то есть «беззаботно».
Природу Пушкинского рисунка объяснить нелегко. В конце 1980-х довелось мне рецензировать замечательный альбом «Рисунки русских писателей ХVII-ХХ веков». Довольно точно сформулировал причину этих затруднений составитель альбома и автор текста к нему Рудольф Дуганов: «Пушкинские рисунки «читать» несравненно труднее, чем рисунки Жуковского. Не только потому, что он делал их для себя, но и потому, что его контрапункт гораздо богаче и, главное, идёт на большей ассоциативной глубине».
Об этом же задолго до него предупреждал и Абрам Эфрос: «Пушкинский рисунок – дитя ассоциации (….) иногда очень далёкой, с почти разорванной связью». И о том же: «Самое глубокое в его поэзии проецировано уловленным и запечатлённым в стихах тёмной творческой стихии»: «Среди бессвязного маранья / Мелькали мысли, примечанья, / Портреты, буквы, имена / И думы тайной письмена».
О рисунках Пушкина и сопутствующих его стиху ассоциациях Эфрос замечает, что они «дополняют, варьируя, развивая образные возможности стиха». Стало быть, отражают, по сути, самую ткань его поэзии. Критик отмечает их разнообразие: от почти сюжетных до лишь намекающих на мотив стихотворений – «от изображений, близких иллюстративности, до образа, соединённого легко усваиваемой ассоциацией».
Но ещё в пушкинские времена просвещённые люди верно понимали назначение иллюстраций. Не фиксируя фабулы, художник призван не повторять литератора визуально, а «домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не хотел сказать», – так утверждал А.Н. Оленин, который с 1817 стал президентом Императорской Академии художеств.
Такой подход открывал почти неограниченные возможности для свободной интерпретации поэтического текста, а стало быть, иллюстратор получал законное право на посильное сотворчество с писателем или поэтом, возможность быть оригинальным мастером в художественно-образном претворении текстов, а не просто ремесленным оформителем книг. Именно к этому всегда упорно стремился Валентин Юстицкий.
Сугубо сюжетный подход к пушкинской поэзии не слишком плодотворен, ибо, по очень точному замечанию Абрама Эфроса, «в иных его созданиях сила гармонии так велика, что смысловые ряды едва сквозят под музыкальным очарованием его фонем». А ведь это ставит иллюстратору пределы любой наглядно-семантической интерпретации: музыку стиха, которая апеллирует к подсознанию, никакой внешней фабулой не уловить.
Любопытно, что владелец коллекции, самочинно публикуя эти рисунки в книге «Тройка, семёрка, ПушкинЪ», проделал поистине титаническую работу в попытке сопроводить их созвучным поэтическим текстом.
Он множество раз от корки до корки перечитывал десятитомное Собрание сочинений А.С. Пушкина, добывал и тщательно просматривал немало биографических книг, посвящённых различным этапам жизни поэта, многочисленные мемуарные и эпистолярные источники, хотя бы отдалённо связанные с ним.
Нельзя сказать, чтобы кропотливый труд его был совсем уж напрасен: всё-таки десятки листов обрели вполне достоверную привязку к конкретным пушкинским текстам. Какое-то количество рисунков получило привязку вероятную, хотя и довольно сомнительную. Значительная же их часть оказалась неприкрепляемой ни к пушкинским поэзии, прозе и драматургии, ни к сколько-нибудь достоверным перипетиям его земного бытия.
Да ведь и у самого Пушкина, согласно Эфросу, в редких рисунках ощутим «иллюстрационный характер», и существует множество сюжетов «не поддающихся отожествлению». Ведь вовсе не сюжетные рисунки выявляют то, что критик определял как «эмоциональную первооснову творчества» гениального поэта. Задача иллюстратора – передать не столько сюжет, как стилистику литературных произведений, выразить преобладающую общую эмоциональную атмосферу произведения или всего творчества автора.
Юстицкий шёл именно таким путём. Его рисунки – свободные размышления и импровизации по поводу текстов или жизни поэта, в которых нет заботы о прямой связи с конкретным текстом или жизненным событием. Может быть, подобного мотива у Пушкина и вовсе нет, но он пушкинский по духу, пушкинский эмоционально, вполне соответствующий ментальности поэта.
Писатель Ефим Дорош вполне справедливо утверждал, что в иллюстрациях сотоварища Юстицкого по группе «13» Николая Кузьмина «его графическая манера является как бы производным от содержания, стиля и жанра иллюстрируемого произведения».
В случае с Юстицким это не совсем справедливо, ибо он позволял себе куда больше возможностей персональной трактовки, чем более опытный книжный иллюстратор Кузьмин. Ибо его рисунки не совсем иллюстрации, скорее вольные графические раздумья по поводу текстов.
«Графика – сестра литературы, взаимоотношения этих искусств всегда тесны, но порой они становятся напряжёнными, противоречивыми. Иллюстрация отталкивается от книги, дополняет и продолжает её. Она сопровождает текст, но нередко подменяет и заслоняет собой»,– справедливо полагал глубокий исследователь графики Юрий Герчук.
И опасность такая, увы, существует. Юрий Тынянов не случайно писал, что «половина русских читателей знает не Гоголя, а Боклевского или в лучшем случае Агина». Как исполнитель в музыке, так и иллюстратор на свой лад является сотворцом автора.
«Случается, что зрительный образ своей назойливой конкретностью только мешает «кристаллизации» читательской мысли», – утверждал Николай Кузьмин. В пушкиниане Юстицкого подобной «назойливой конкретности» не найти.
У Пушкина он искал нечто созвучное собственным своим чувствам. И экспрессия пушкинского стиха оживает в экспрессии рисунков Юстицкого, стремящегося перевести на визуальный графический язык вербальную стилистику его поэзии.
Обнаружить содержательно-смысловые связи между конкретными рисунками и текстами поэта чаще всего нельзя. Ведь то, что именуют «эмоциональным содержанием», пересказать буквально едва ли вообще возможно.
Здесь, пожалуй, снова стоит обратиться к опыту М.К. Соколова, ибо, в отличие от Юстицкого, сохранились не только циклы его иллюстраций и научное осмысление принципов его работы с текстами, но и собственные раздумья обо всём этом старшего мастера, опубликованные годы спустя исследователями.
Перекличка этих талантливых художников оказывается важной и для понимания той атмосферы, в которой они творили, и для осмысления существа их подхода к иллюстрированию. Михаилу Соколову, как и Валентину Юстицкому, тоже оказывается более важным не столько выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько общий эмоционально-стилистический строй творчества писателя или поэта.
Т.А. Лебедева в статье «М.К. Соколов-иллюстратор», рассуждая об обширнейшем цикле рисунков этого мастера к различным произведениям Диккенса, в которых нет точного совпадения с конкретными текстами, ибо они вовсе не были ориентированы на то или иное издательство, приводит фразу из письма этого мастера Н.В. Розановой (март 1945г.), воплощающую, по её мнению, его творческое кредо художника-иллюстратора: «В иллюстрировании писателя важен дух его, а не протокольность момента».
Исследовательница цитирует и соколовское рассуждение из другого его письма той же Н.В Розановой и тоже 1945 года, но уже не марта, а первых дней мая. Речь он ведёт о тех рисунках, когда, отходя далеко от конкретного текста, он подписывал их просто – «К Диккенсу».
«Ведь для меня всегда дорого в работе – суть вещи – если это Диккенс, то изображение воспринималось бы как Диккенс, хотя момента такого во всём Диккенсе не было (…) Я считаю это единственно верным решением», – писал он.
Сходный принцип иллюстрирования и в пушкиниане Юстицкого. Это невольно почувствовал Андрей Морозов, подбиравший конкретные тексты к его рисункам. Иногда их оказывалось от двух-трёх до семи к одному листу, ибо в основном они – к Пушкину вообще, как у Михаила Соколова – к Диккенсу.
Давая в своей публикации к множеству рисунков Юстицкого по несколько пушкинских текстов, коллекционер явно не притязает на категоричности своих интерпретаций конкретного рисунка. Прямой соотнесённости с любым из этих текстов в таких рисунках чаще всего нет или обнаружить их пока не удаётся, а потому попытки буквально расшифровать их, видимо, обречены на неудачу.
В сущности, так обстоит дело и с упорными попытками разгадать скрытый смысл буквально каждого из пушкинских рисунков. Особенно настойчиво, превращая исследование в расследование (дознание), иные авторы пытаются непременно определить буквально каждый из множества его графических портретов, забывая проницательное эфросовское предупреждение: «К миру современников Пушкин прибавил облики людей, созданных его графической фантазией. (…) Он общался с ними, как с живыми».
О том же и замечание Сергея Гессена, уважительного критика этой книги А.М. Эфроса: «Переоценка значения пушкинской графики влечёт за собой ложные и ничем не обоснованные выводы, приводя подчас к подмене документальной биографии поэта продуктами творческого воображения исследователя».
А поэтому, находясь на нынешнем уровне изучения пушкинианы Юстицкого, и не стоит давать конкретные названия множеству подобных его рисунков, ограничиваясь указанием: «К Пушкину», не отягощая себя произвольными домыслами.
В сущности, другие коллекционеры, публикуя рисунки этой серии, так и поступают, давая или в подписи безликое «Без названия» или визуально и так очевидное: «Пушкин и барышня с букетом», «Пушкин и всадница», «Пушкин и обнажённая», «Пушкин, дама и гусар».
Ещё в 1938 году, незадолго до ареста, у Михаила Соколова возникали те же самые проблемы с издательствами, что и у Юстицкого. Но, даже освободившись по болезни из лагеря, художник, оказавшийся в труднейшей жизненной ситуации, всё же, как и прежде, оставался верен себе: «Я хочу не только петь, я хочу петь свою музыку» (сентябрь 1945 г.).
Тоже прямая перекличка двух талантливых и оригинальных мастеров, умученных тоталитарной системой физически, но душевно так и не сломленных ею.
И Соколов, как и Юстицкий, в какие-то моменты лагерной жизни получал возможность писать на толстой фанере пейзажи, натюрморты и … скачки. Как и у Юстицкого, графика его – вовсе не подспорье живописи, она самодостаточна, а не служебна. Как и Юстицкий, М. Соколов полюбил живопись Адольфа Монтичелли, также как он, увлечённо изображал летящих всадников и вообще лошадей. И ему были присущи дар импровизации и техническая виртуозность, стремление визуально воплощать литературные импровизации.
Натуру каждого из них отличало сочетание чувственно-эмоционального начала с живым активным интеллектом, стремление в иллюстрациях не только к внешней маэстрии, но и к угадке эмоциональной заряженности авторского текста.
Есть ещё одна черта, роднящая этих двух талантливых мастеров, успешно работавших в живописи и графике, – это богатство и смелость воображения.
Серьёзный и глубокий искусствовед Н.М. Тарабукин, в прошлом ученик М.К. Соколова, в своём докладе в ГАХНе «Колористичность и живописность в работах художника Михаила Соколова» (1929) рассказал о том, что в живописной серии «Старая Москва» была «изображена приземистая, сросшаяся с землёй ветхая церковь, окрашенная в какой-то трудно определимый красноватый цвет. «Какая из церквей изображена»? – спросил он художника. Тот лукаво посмотрел и ответил: «Московская! Ведь это синтез. В действительности такой, может быть, и нет. Но она всё же, московская».
Тарабукин восхитился: «Вот достойный ответ художника, мыслящего образом. Что убеждает в картине? Её жизненность. Она не списана с действительности, но она живёт, подобно действительности. Перед зрителем образ, то есть неизбежно живое, ибо образ рождается».
В статье «Искусство М. Соколова» исследователь его творчества Н. Третьяков справедливо отмечает: «Он создаёт множество родственных вариаций, идёт к цели на ощупь, полагаясь на удачные находки случайной импровизации».
Критик почти повторяет высказывание самого художника в одном из писем Н.В. Верещагиной: «Я на одну тему делаю много вариаций, и это совсем не повторение – это мой способ овладения темой…»
Думается, что Валентин Юстицкий, без всякого сомнения, мог бы повторить подобное признание и о собственном методе работы.
В аналогичной позиции Юстицкого разгадка основного характера данного цикла: его тогдашняя погружённость в пушкинскую эпоху, в реалии повседневной жизни той поры, в поэтику его стихотворений и прозы – настойчивое субъективное вживание в существо самой поэтической материи пушкинских творений. И это совершенно очевидно в его рисунках.
Лишь ассоциативно связанные вовсе не с конкретными произведениями, а с общими чертами творчества, они отзвучны характерной интонации его поэзии, самой музыкальной вибрации пушкинского стиха.
Вроде бы листы это совершенно самостоятельные, каждый вполне самодостаточен, но глубинно они связанны между собой единством общего замысла, общим эмоциональным тонусом всего этого цикла: такова его сквозная эмоциональная тема.
Можно только подивиться той неудержимой энергии, которая в не слишком комфортных условиях толкала его множить и множить такие экспромтные рисунки. Зудящая потребность свободного творческого самовыражения и породила эти листы, у которых не было шансов на иную реализацию, кроме сугубо художественной. И это в годы острой нужды и жизненной неустроенности.
В подобной бесконечной вариативности близких мотивов проглядывает творческая расточительность художника, свободно импровизирующего на заданные мотивы. И в основе её лежит безудержное, стремительное и экспрессивное самовыражение самого Юстицкого. А потому верная суммарная характеристика здесь гораздо плодотворнее дробной описательности при перечислении буквально всех рисунков серии.
«Выразительность, выразительность и ещё раз выразительность – вот единственная доблесть рисунка», – прокламировал Владимир Милашевский. Валентин Юстицкий, отличавшийся врождённым артистизмом художественного мышления, в своих листах пушкинской серии вполне соответствовал этому определению.
Ненатужный, летучий рисунок Юстицкого, его пластическая активность, смелая энергия штриха, предельный лаконизм обобщённых форм сродни манере пушкинских рисунков, основному характеру их изобразительно-выразительных средств.
Он выражал в них скорее стилистику пушкинских творений, их эмоциональное звучание, нежели повествовательные мотивы, и, отталкиваясь от его текстов, передавал собственные свои представления о жизни той эпохи.
Выставка в ГМИИ рисунков В.А. Милашевского из собрания Воронежского художественного музея называлась «Иллюстрация, как верность стилю». В ещё большей мере это название приложимо к пушкиниане Юстицкого: её отличает верность стилю поэта и верность собственной стилистике.
Так уж случилось, что именно в коллекции Андрея Морозова, где сконцентрировалась самая обширная часть этой серии рисунков, явно доминируют те, где отчётливо проявился не столько содержательно-смысловой подход к иллюстрированию, сколько эмоционально-стилистический, где сюжетные прямые переклички изображения со словом сменились скорее лишь чисто ассоциативной близостью. Но именно такие листы и наиболее интересны в собственно графическом отношении.
Неугомонный обновитель своей стилистики, Юстицкий, видимо, почувствовал, что именно эмоционально-метафорический способ иллюстрирования в большей мере обнаруживает наличие психологического и творческого избирательного сродства его самого как художника-интерпретатора с поэтом.
Ибо в подобных листах, сберегая свежесть собственного своего графического прочтения текстов и сохраняя их стилистическую и эмоциональную окраску, он отражает пушкинскую летучую скоропись, «избыточную энергию» его письма и рисунка – то, что Абрам Эфрос очень метко называл «пафосом экспромта».
Они и делались, вероятно, в один присест. Динамическая выразительность этих стремительно набросанных листов Юстицкого, прихотливая виртуозность его линий и штрихов передают пульс пушкинской стилистики, открывая самое сокровенное в ней, ибо дух поэта гораздо важнее для художника, нежели сюжеты его стихов или прозы – не зримая точность передачи текста волнует иллюстратора, а передача его эмоционального звучания.
И не так уж просто восстановить ход творческой мысли художника в этих рисунках, лишь ассоциативно связанных, не столько с конкретными произведениями, как с общими чертами пушкинского творчества, отзвучных характерной интонации его поэзии.
Как утверждал в своей статье «Иллюстрация» (1923) Юрий Тынянов, «никто не может отрицать права иллюстраций на существование в качестве самостоятельных произведений графики». Таковыми они остаются у Юстицкого и в тех случаях, когда он приоткрывает мотивы конкретного произведения с помощью значимого визуального намёка, играющего роль локально-сюжетной привязки к конкретному тексту.
Увидев на рисунке Юстицкого конного богатыря у шатра Шамаханской царицы, сразу вспоминаешь пушкинского «Золотого петушка», а медведь у постели спящей девушки явно намекает на сон Татьяны Лариной из его «Евгения Онегина».
Человек, стоящий у клетки, и улетающая птица – несомненно, отклик на стихотворение «Птичка» 1823 года, а вариации изображений пишущего в келье монаха легко ассоциируются с Пименом из драмы «Борис Годунов».
А воротившийся домой Пушкин и женщина с младенцем на руках (другой ползает на полу) – явно намёк на строки его «Послания к цензору» («Жена и дети, друг, поверь – большое зло…»).
Мужчина, разглядывающий игральную карту и очертания умершей старухи на фоне, как бы воскресающей в воображении игрока, пробуждают в памяти персонажей «Пиковой дамы». Этот образ не оставлял его и годы спустя.
Уже в лагерные годы он вновь возвращается к психологической драме этого пушкинского творения.14 ноября 1939 года он делится с Анисимовой мучающим его раздумьем о нём: «Хочу начать одну интересную работу по вечерам. Это иллюстрации к «Пиковой даме». Хочу её сделать совершенно по-особенному, так как весь план этой вещи я пересмотрел, и эта вещь мне представилась совершенно по-иному.
Образ Германа, старой графини, стиль эпохи, азарт смешивается с огромной страстностью Германа, а лейтмотив – это какой-то кошмар. Я перечитал всего Пушкина. Это была единственная у меня книга. Я её перечитал совершенно спокойно, не пережив ничего нового, и только одна вещь совершенно по-новому прозвучала – это «Пиковая дама»…
Ряд скабрезных рисунков, где художник, акцентируя грубо-физиологическое начало, обыгрывая вульгарные подробности, решается на конкретно-наглядное образное воссоздание весьма пикантных ситуаций, бесспорно, перекликается с мотивами разыгравшейся эротической фантазии пушкинской «Гаврилиады», «этой прелестной пакости», как определил её младший друг поэта, один из «архивных юношей» Сергей Соболевский.
Насмешливое покушение на сакральное, когда «непорочное зачатие» предваряют эротические усилия сатаны, архангела Гавриила и Духа святого, ставят под сомнение реальное отцовство Божьего сына, не могло восприниматься иначе как богохульное святотатство и покушение на самые основы религиозных верований.
Это, естественно, не могло не вызвать возмущённое раздражение клира и накликать на голову поэта и монарший гнев. Пушкин поначалу принуждён был отрекаться от своего авторства, которое принесло ему много неприятностей и вполне реализуемых угроз.
Вероятно, что с «Гаврилиадой» связан и чисто биографический рисунок Юстицкого: коленопреклоненный и всклокоченный Пушкин с демонстративным крестиком на груди, уронивший рукопись и перо, испуганно оправдывается перед насупленным императором, а унтер-пришибеевского типа государь грозит ему своим кулачищем.
Почти столь же «рискованные», как в рисунках к «Гаврилиаде», сценки в группе других рисунков, судя по характеристикам персонажей, относятся к ранней пушкинской поэме «Руслан и Людмила», насыщенной ироническим обыгрыванием эротики.
А раскованный игриво-иронический тон ряда рисунков явно перекликается с интонацией пушкинского «Графа Нулина».
Никаких сомнений не вызывают рисунки к «Сказке о рыбаке и рыбке», особенно с изображением тощего старика с неводом, в котором трепыхается рыбка, и стоящей на высоком берегу, как монумент, старухой, что-то властно указующей ему.
Неоспоримы и листы к «Сказке о Попе и работнике его Балде», где Балда даёт щелчок самому главному чёрту, заметно смахивающему на незабвенного Ильича, ежедневно и уж очень навязчиво всенародно прославляемого в 1930-е годы.
Наверняка к пушкинскому «Дон Жуану» условный рисунок, где ангел, слетающий с небес, поражает нечестивца около лишь слегка обозначенной статуи командора.
Рисунок, где черти, преследуют сидящего на лошади юного поэта, вероятнее всего, создан по мотивам самого раннего из сохранившихся произведения четырнадцатилетнего Пушкина «Монах». Песнь 3-я (1813).
Можно предположить, что изображённый Юстицким всадник, стремительно мчащийся вслед за бегущей собакой и целящийся из ружья в летящую птицу, навеян строками из той строфы «Евгения Онегина», которая была напечатана лишь в первом его издании (глава четвёртая): «У всякого своя охота, / Своя любимая забота: / Кто целит в уток из ружья, / Кто бредит рифмами, как я … »
Сам заядлый охотник и страстный любитель лошадей, он, видимо, не мог отказать себе в удовольствии графически воплотить этот мотив.
Во всех этих случаях, как и в ряде других, коллекционер, напечатавший рядом с репродукцией этого рисунка пушкинские строки, пожалуй, ничуть не ошибся: очень уж ложится каждый рисунок на текст, а может, напротив – текст на рисунок.
Один из рисунков воспринимается как запечатленная проекция его воспоминания об эпатажной постановке «Евгения Онегина» на сцене руководимого им театрика «Арена ПОЭХМА» (поэт, художник, музыкант, актёр), описанная в воспоминаниях Даниила Дарана.
«После спектакля устраивался дивертисмент, где выступали все участники труппы. Профессор саратовских мастерских Константин Поляков изображал дрессировщика в цирке. Выходил он в чёрном сюртуке, в цилиндре и с большим хлыстом. Остановившись на середине сцены, он снимал цилиндр, расхаживая, щёлкал три раза хлыстом, как бы гоняя лошадь по арене».
Есть доля вероятности в предположении А. Морозова, что озорной и явно фантазийный рисунок Юстицкого, изобразившего Пушкина в шляпе и с рюмкой в руке, мчащегося на лошади, столь сильно удлинённой, чтобы на крупе её во весть рост разместилась обнажённая девушка, навеяли строки из пятой главы «Евгения Онегина».
«За ним строй рюмок узких, длинных, / Подобных талии твоей, / Зизи, кристалл души моей, / Предмет стихов моих невинных, / Любви приманчивый фиал, / Ты, от кого я пьян бывал»! Догадка эта и вполне вероятна, и почти недоказуема разом.
Тогда как рисунок, изображающий Пушкина всадником с рукой обращённой к летящей Музе, таких сомнений не вызывает: строки его юношеского стихотворения «Мечтатель», обращённые к музе «О будь мне спутницей младой / До самых врат могилы» раскрыты визуально. Тем более что Муза и впрямь до конца оставалась верной мечте поэта.
Столь же убедительно ложится на строки из пушкинских «Бесов» и рисунок Юстицкого изображающий поэта в кибитке, которую бешеная тройка несёт во весь опор сквозь буран, увозя от кружащихся вокруг бесов, примнившихся и автору, и даже слегка бесоватому кучеру.
Или другой рисунок, где изображён Пушкин, подъехавший на коне к пограничному столбу, а некий полицейский чин протягивает ему конверт с гербовыми печатями, где, вероятнее всего, значится, что он, увы, всё ещё остается, если воспользоваться сленгом советской поры, «невыездным».
Думается, Андрей Морозов верно подобрал строки из пушкинского стихотворения «К Языкову»: «И я с весёлою душою / Оставить был совсем готов / Неволю невских берегов. И что ж? Гербовые заботы / Схватили за полы меня, / И на Неве, хоть нет охоты, / Прикованным остался я».
Любопытнейший пример многоаспектной иллюстрации к стихотворению «Деревня», написанному ещё двадцатилетним поэтом. Юстицкий нарисовал взъерошенного, широко шагающего Александра Пушкина, возбуждённо декламирующего свои призывные стихи.
За ним от собора на грузном тяжело ступающем коне едет военный с палашом в руке (вероятно император иди шеф жандармов). Можно назвать множество строк в этом стихотворении, которые внутренне отзвучны изображённому на этом рисунке.
Художник иллюстрирует не один какой-нибудь эпизод, он стремится выразить эмоциональный заряд всего произведения, характерного для пушкинской поэзии той поры, передать не столько те или иные сюжетные мотивы, а стилистику текста, его индивидуально-выразительные особенности, выразить своё понимание многозначности пушкинских текстов.
Повторяю: такого рода примеры составляют явное меньшинство в рассматриваемой здесь личной коллекции. Даже и в этих немногих рисунках становится очевидным, что повествовательные функции иллюстраций, рассказы о событиях текста утрачивают для этого художника первенствующую роль.
Ему важно другое: переводя фабульные задачи на второй план, избегая подробной описательности, он стремился, чтобы читатель-зритель силой разбуженного рисунком воображения самостоятельно домыслил сюжетно-фабульную ситуацию произведения, а главное – верно ощутил его эмоциональный тон.
В большинстве же своём рисунки эти и вовсе свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста. Это свободная интерпретация самого духа поэзии Пушкина, её преобладающей ритмики и стилистики. Поэтому многие из таких его рисунков обречены быть неразгаданными в их отношении к конкретному тексту: они ведь к «Пушкину вообще…».
Понятие графического рассказа совершенно неприложимо к этим листам: художник совершенно не склонен пересказывать рисунками тексты великого поэта, словно настаивая на самоценности своей графической реакции на прочитанное.
Изначально игнорируя специфику книжно-графической иллюстрации, он переходит к чисто импровизационному рисунку по мотивам, посвящённым Пушкину, но отражающих и собственную его личность. Меньше всего в каждом из них занимала Юстицкого внешне-описательная, собственно сюжетная их сторона.
Совершенно не книжный, намеренно станковый характер всего этого цикла вовсе не от слабостей отечественной полиграфической базы: её заведомая «некнижность» предопределена самим замыслом художника, своевольным откликом «по поводу» пушкинских текстов, но в чём-то и выработанными основами его графической стилистики.
Надо понять характер его творческого метода. Юстицкий не толкователь пушкинских произведений, а скорее, как говорится, «сочитатель», работающий в соавторстве с чутким к поэтике рисунка зрителем. Он стремится к совпадению с ним не в понимании тематики и сюжетики, а самого духа пушкинского творчества.
Мастер ищет зрительные соответствия свободно возникающим в своей душе отзвукам на темы пушкинских стихов, прозы или драматургии. Мгновенно запечатлеть мимолётную сценку, мелькнувшую в его воображении как реакцию на прочитанное или припомнившееся и одновременно дать кадр в задуманный цикл листов, посвящённых памяти великого поэта, самой набросочной недосказанностью стимулируя напряжённое восприятие зрителя.
Не озаботившись проблемами полиграфического конструирования книжной формы, оставаясь в пределах образного иллюстрирования, Юстицкий задумывался о том, как перевести на графический язык поэзию и прозу, передать визуально вербальную стилистику.
А о существенном различии конкретности в словесном и изобразительном творчестве толковал Ю. Тынянов ещё в самом начале 1920-х годов.
В этом, казалось бы, произвольном чередовании самостоятельных кадров из жизни и творчества поэта, проступают содержательные связи, открывающие общий смысл целого, складывающегося из продуманной совокупности отдельных значимых её фрагментов. Вроде бы, листы эти совершенно самостоятельные, но глубинно они связанны между собой внутренне – такова сквозная эмоциональная тема всего цикла.
По прихотливому набору отдельных эпизодов не так уж просто постичь тот внутренний душевный процесс, который привёл Юстицкого к такому постижению Пушкина. Его отрешённо-раздумчивое восприятие пушкинских текстов и эпизодов жизни их автора, благодаря богатому воображению и чуткому проникновению художника в мир поэта, обретает самостоятельную ценность.
Это как раз тот случай, который в середине 1980-х Александр Якимович обозначил как «непокорное иллюстрирование» с выраженной позицией «равноправного автора», открыто утверждающего значимость собственных ассоциаций по поводу прочитанного. Он обозначает такие листы как «станковую графику по мотивам литературных произведений».
Такие рисунки и Юстицкого, конечно же, нельзя воспринимать только, как странную дерзость свободолюбивого художника. Они, безусловно, обладают не только самостоятельной художественной ценностью, но, думается, что рано или поздно прояснится и их законное место в поистине необозримой графической пушкиниане.
Со временем, когда будут осмысленны все, ныне рассеянные, листы обширнейшей серии Валентина Юстицкого, станет яснее и собственная образная концепция и внутренний импульс всего этого пушкинского цикла, как бы походя сымпровизированного художником.
В коллекции А.С. Морозова много рисунков, показывающих поэта в буднях его деревенской жизни, когда персонажем всей графической серии становятся не герои пушкинской поэзии и прозы, а сам поэт. Как бы длинная кинолента, то неторопливо движущихся, то стремительно проносящихся кадров. В них нет определённой фабулы, отдельного эпизода из биографии Пушкина, а есть стремление образно воссоздать общую атмосферу жизни поэта.
В деревне Пушкин почти не слезал с лошади: «я провожу верхом в поле всё время, когда я не в постели». Да и в пору южной ссылки его любимым занятием была верховая езда. «Наездник смирного Пегаса» в обыденной жизни любил гарцевать на коне, обладая достаточным наездническим опытом, он вовсе не чурался стремительных скачек, что наглядно отразилось и в его собственной графике.
Пушкинский рисунок буквально летящего всадника на черновике рукописи стихотворения «Делибаш» мог бы служить эпиграфом почти всех «деревенских» рисунков Юстицкого из обширного морозовского собрания.
И к тому времени художнику, по его словам, уже открылся автобиографический смысл многих строк пушкинского романа, а потому и обращение к рисункам поэта, и к его лирическим отступлениям, занимающим в нём очень уж значительное место, обрели для иллюстратора особое значение.
Они помогали вернее передать и душевно-духовный склад Пушкина, приблизиться к стилистике и ритмике его поэзии и графики. Не зря бытует представление, что главным героем этого стихотворного романа стал сам его автор.
Художников-иллюстраторов нередко сравнивают с музыкантами-исполнителями, с переводчиками поэзии и прозы, ибо у всех них стоит проблема художественной интерпретации творчества других авторов.
Здесь уместно вспомнить размышление Корнея Чуковского о незыблемых принципах художественного перевода: «Отражение личности писателя в языке его произведений и называется его индивидуальным стилем, присущим ему одному. Поэтому я и говорю, что, исказив его стиль, мы тем самым исказили его лицо».
Говоря о «языке», следует трактовать это понятие не как просто обыденную речь, но и как темп её и ритм, эмоциональную окраску, потенциональную метафоричность и символику, то есть понимать его не только в качестве орудия повседневного общения, а именно как язык искусства. И не случайно книга о работе переводчиков названа им «Высокое искусство». Творчество талантливых иллюстраторов тоже вполне заслуживает такого признания.
Но тот же самый К.И. Чуковский одну из глав этой книги озаглавил: «Перевод – это автопортрет переводчика». Так и иллюстратор, стремясь не исказить творческую личность писателя или поэта, не должен прятать и собственное своё художническое лицо.
Именно это отличало творческую манеру Юстицкого, который при всей своей отзывчивости и восприимчивости к чужому творчеству всегда был обострённо-субъективным в случаях претворения его в творчестве собственном.
Это всегда было «сотворческое сопереживание», если воспользоваться терминологией Михаила Бахтина. Его раскованная и дерзкая фантазия была сродни абсолютно ничем не скованной пушкинской свободе воображения.
Однако, как художник острой наблюдательности, он и в фантазиях своих верен увиденному и запомнившемуся. Этого требовала передача особенностей образности вербальной образностью визуальной с её наглядной, осязаемой глазом конкретикой.
Визуальные параллели вербальным образам и не могут быть буквальными. Художник интерпретирует, сообразуясь с природой своего искусства, его возможностями: далеко не всё, что можно прочесть, легко, сделать зримым. Важнее сродство с духом и стилистикой текста, их убедительная графическая интерпретация, ощущение эмоциональной ауры текста.
Н.В. Кузьмин писал вполне справедливо: «Тридцатые годы, предшествовавшие 1937-му юбилейному пушкинскому году, были отмечены особым подъёмом в нашем пушкиноведении. Нет нужды припоминать все названия вышедших тогда посвящённых пушкинской теме книг, статей, рассказов, фильмов, картин, рисунков, – многие из этих трудов вошли в Золотой фонд нашей культуры».
К нему постепенно приобщается и графическая пушкиниана Юстицкого. Но, как уже отмечалось, это осложнено тем, что обширнейший цикл его пушкинских рисунков распылён по различным коллекциям и, вероятно, не все они уже обнародованы и доступны обозрению. Всё же, относительная полнота их, сосредоточенная в коллекции А.С. Морозова, о которой уже шла речь, позволяет сделать некоторые предварительные предположения.
Говорилось также и о том, что на многих рисовальщиков и не только иллюстраторов Пушкина, начиная с середины 1930-х годов, оказали существенное воздействие опубликованные рисунки великого поэта с его черновиков.
Глубокий и проникновенный исследователь пушкинской графики Абрам Эфрос, искренне восхищённый «летучими» рисунками поэта, писал: «В его рисунках не было ничего принудительного и важного (…) Они обладали лёгкостью внезапной игры пера и воображения…» «Он рисовал, в самом деле, легко и бездумно. Он рисовал беззаботно. Он рисовал, как хотел бы писать. Он не усердствовал, не искал, не отделывал».
Прямая перекличка с ними в графике Валентина Юстицкого. Он вовсе не имитирует пушкинский рисунок буквально, не копирует его графические приёмы, но в своём рисовании внутренним строем близок рисункам поэта глубинным родством подхода. Как и у Пушкина, его пером двигало раскованное воображение – «желаний своевольных рой», и они тоже – результат спонтанного творческого порыва – стремительно динамичные.
Или опять же по-пушкински, оставляющие впечатление полнейшей непроизвольности выплеска внезапных мыслей, эмоций, которые имеют характер непринуждённой импровизации: «небрежный плод моих забав…» И Юстицкий тоже «не усердствовал», а рисовал совсем по-пушкински, то есть «беззаботно».
Природу Пушкинского рисунка объяснить нелегко. В конце 1980-х довелось мне рецензировать замечательный альбом «Рисунки русских писателей ХVII-ХХ веков». Довольно точно сформулировал причину этих затруднений составитель альбома и автор текста к нему Рудольф Дуганов: «Пушкинские рисунки «читать» несравненно труднее, чем рисунки Жуковского. Не только потому, что он делал их для себя, но и потому, что его контрапункт гораздо богаче и, главное, идёт на большей ассоциативной глубине».
Об этом же задолго до него предупреждал и Абрам Эфрос: «Пушкинский рисунок – дитя ассоциации (….) иногда очень далёкой, с почти разорванной связью». И о том же: «Самое глубокое в его поэзии проецировано уловленным и запечатлённым в стихах тёмной творческой стихии»: «Среди бессвязного маранья / Мелькали мысли, примечанья, / Портреты, буквы, имена / И думы тайной письмена».
О рисунках Пушкина и сопутствующих его стиху ассоциациях Эфрос замечает, что они «дополняют, варьируя, развивая образные возможности стиха». Стало быть, отражают, по сути, самую ткань его поэзии. Критик отмечает их разнообразие: от почти сюжетных до лишь намекающих на мотив стихотворений – «от изображений, близких иллюстративности, до образа, соединённого легко усваиваемой ассоциацией».
Но ещё в пушкинские времена просвещённые люди верно понимали назначение иллюстраций. Не фиксируя фабулы, художник призван не повторять литератора визуально, а «домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не хотел сказать», – так утверждал А.Н. Оленин, который с 1817 стал президентом Императорской Академии художеств.
Такой подход открывал почти неограниченные возможности для свободной интерпретации поэтического текста, а стало быть, иллюстратор получал законное право на посильное сотворчество с писателем или поэтом, возможность быть оригинальным мастером в художественно-образном претворении текстов, а не просто ремесленным оформителем книг. Именно к этому всегда упорно стремился Валентин Юстицкий.
Сугубо сюжетный подход к пушкинской поэзии не слишком плодотворен, ибо, по очень точному замечанию Абрама Эфроса, «в иных его созданиях сила гармонии так велика, что смысловые ряды едва сквозят под музыкальным очарованием его фонем». А ведь это ставит иллюстратору пределы любой наглядно-семантической интерпретации: музыку стиха, которая апеллирует к подсознанию, никакой внешней фабулой не уловить.
Любопытно, что владелец коллекции, самочинно публикуя эти рисунки в книге «Тройка, семёрка, ПушкинЪ», проделал поистине титаническую работу в попытке сопроводить их созвучным поэтическим текстом.
Он множество раз от корки до корки перечитывал десятитомное Собрание сочинений А.С. Пушкина, добывал и тщательно просматривал немало биографических книг, посвящённых различным этапам жизни поэта, многочисленные мемуарные и эпистолярные источники, хотя бы отдалённо связанные с ним.
Нельзя сказать, чтобы кропотливый труд его был совсем уж напрасен: всё-таки десятки листов обрели вполне достоверную привязку к конкретным пушкинским текстам. Какое-то количество рисунков получило привязку вероятную, хотя и довольно сомнительную. Значительная же их часть оказалась неприкрепляемой ни к пушкинским поэзии, прозе и драматургии, ни к сколько-нибудь достоверным перипетиям его земного бытия.
Да ведь и у самого Пушкина, согласно Эфросу, в редких рисунках ощутим «иллюстрационный характер», и существует множество сюжетов «не поддающихся отожествлению». Ведь вовсе не сюжетные рисунки выявляют то, что критик определял как «эмоциональную первооснову творчества» гениального поэта. Задача иллюстратора – передать не столько сюжет, как стилистику литературных произведений, выразить преобладающую общую эмоциональную атмосферу произведения или всего творчества автора.
Юстицкий шёл именно таким путём. Его рисунки – свободные размышления и импровизации по поводу текстов или жизни поэта, в которых нет заботы о прямой связи с конкретным текстом или жизненным событием. Может быть, подобного мотива у Пушкина и вовсе нет, но он пушкинский по духу, пушкинский эмоционально, вполне соответствующий ментальности поэта.
Писатель Ефим Дорош вполне справедливо утверждал, что в иллюстрациях сотоварища Юстицкого по группе «13» Николая Кузьмина «его графическая манера является как бы производным от содержания, стиля и жанра иллюстрируемого произведения».
В случае с Юстицким это не совсем справедливо, ибо он позволял себе куда больше возможностей персональной трактовки, чем более опытный книжный иллюстратор Кузьмин. Ибо его рисунки не совсем иллюстрации, скорее вольные графические раздумья по поводу текстов.
«Графика – сестра литературы, взаимоотношения этих искусств всегда тесны, но порой они становятся напряжёнными, противоречивыми. Иллюстрация отталкивается от книги, дополняет и продолжает её. Она сопровождает текст, но нередко подменяет и заслоняет собой»,– справедливо полагал глубокий исследователь графики Юрий Герчук.
И опасность такая, увы, существует. Юрий Тынянов не случайно писал, что «половина русских читателей знает не Гоголя, а Боклевского или в лучшем случае Агина». Как исполнитель в музыке, так и иллюстратор на свой лад является сотворцом автора.
«Случается, что зрительный образ своей назойливой конкретностью только мешает «кристаллизации» читательской мысли», – утверждал Николай Кузьмин. В пушкиниане Юстицкого подобной «назойливой конкретности» не найти.
У Пушкина он искал нечто созвучное собственным своим чувствам. И экспрессия пушкинского стиха оживает в экспрессии рисунков Юстицкого, стремящегося перевести на визуальный графический язык вербальную стилистику его поэзии.
Обнаружить содержательно-смысловые связи между конкретными рисунками и текстами поэта чаще всего нельзя. Ведь то, что именуют «эмоциональным содержанием», пересказать буквально едва ли вообще возможно.
Здесь, пожалуй, снова стоит обратиться к опыту М.К. Соколова, ибо, в отличие от Юстицкого, сохранились не только циклы его иллюстраций и научное осмысление принципов его работы с текстами, но и собственные раздумья обо всём этом старшего мастера, опубликованные годы спустя исследователями.
Перекличка этих талантливых художников оказывается важной и для понимания той атмосферы, в которой они творили, и для осмысления существа их подхода к иллюстрированию. Михаилу Соколову, как и Валентину Юстицкому, тоже оказывается более важным не столько выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько общий эмоционально-стилистический строй творчества писателя или поэта.
Т.А. Лебедева в статье «М.К. Соколов-иллюстратор», рассуждая об обширнейшем цикле рисунков этого мастера к различным произведениям Диккенса, в которых нет точного совпадения с конкретными текстами, ибо они вовсе не были ориентированы на то или иное издательство, приводит фразу из письма этого мастера Н.В. Розановой (март 1945г.), воплощающую, по её мнению, его творческое кредо художника-иллюстратора: «В иллюстрировании писателя важен дух его, а не протокольность момента».
Исследовательница цитирует и соколовское рассуждение из другого его письма той же Н.В Розановой и тоже 1945 года, но уже не марта, а первых дней мая. Речь он ведёт о тех рисунках, когда, отходя далеко от конкретного текста, он подписывал их просто – «К Диккенсу».
«Ведь для меня всегда дорого в работе – суть вещи – если это Диккенс, то изображение воспринималось бы как Диккенс, хотя момента такого во всём Диккенсе не было (…) Я считаю это единственно верным решением», – писал он.
Сходный принцип иллюстрирования и в пушкиниане Юстицкого. Это невольно почувствовал Андрей Морозов, подбиравший конкретные тексты к его рисункам. Иногда их оказывалось от двух-трёх до семи к одному листу, ибо в основном они – к Пушкину вообще, как у Михаила Соколова – к Диккенсу.
Давая в своей публикации к множеству рисунков Юстицкого по несколько пушкинских текстов, коллекционер явно не притязает на категоричности своих интерпретаций конкретного рисунка. Прямой соотнесённости с любым из этих текстов в таких рисунках чаще всего нет или обнаружить их пока не удаётся, а потому попытки буквально расшифровать их, видимо, обречены на неудачу.
В сущности, так обстоит дело и с упорными попытками разгадать скрытый смысл буквально каждого из пушкинских рисунков. Особенно настойчиво, превращая исследование в расследование (дознание), иные авторы пытаются непременно определить буквально каждый из множества его графических портретов, забывая проницательное эфросовское предупреждение: «К миру современников Пушкин прибавил облики людей, созданных его графической фантазией. (…) Он общался с ними, как с живыми».
О том же и замечание Сергея Гессена, уважительного критика этой книги А.М. Эфроса: «Переоценка значения пушкинской графики влечёт за собой ложные и ничем не обоснованные выводы, приводя подчас к подмене документальной биографии поэта продуктами творческого воображения исследователя».
А поэтому, находясь на нынешнем уровне изучения пушкинианы Юстицкого, и не стоит давать конкретные названия множеству подобных его рисунков, ограничиваясь указанием: «К Пушкину», не отягощая себя произвольными домыслами.
В сущности, другие коллекционеры, публикуя рисунки этой серии, так и поступают, давая или в подписи безликое «Без названия» или визуально и так очевидное: «Пушкин и барышня с букетом», «Пушкин и всадница», «Пушкин и обнажённая», «Пушкин, дама и гусар».
Ещё в 1938 году, незадолго до ареста, у Михаила Соколова возникали те же самые проблемы с издательствами, что и у Юстицкого. Но, даже освободившись по болезни из лагеря, художник, оказавшийся в труднейшей жизненной ситуации, всё же, как и прежде, оставался верен себе: «Я хочу не только петь, я хочу петь свою музыку» (сентябрь 1945 г.).
Тоже прямая перекличка двух талантливых и оригинальных мастеров, умученных тоталитарной системой физически, но душевно так и не сломленных ею.
И Соколов, как и Юстицкий, в какие-то моменты лагерной жизни получал возможность писать на толстой фанере пейзажи, натюрморты и … скачки. Как и у Юстицкого, графика его – вовсе не подспорье живописи, она самодостаточна, а не служебна. Как и Юстицкий, М. Соколов полюбил живопись Адольфа Монтичелли, также как он, увлечённо изображал летящих всадников и вообще лошадей. И ему были присущи дар импровизации и техническая виртуозность, стремление визуально воплощать литературные импровизации.
Натуру каждого из них отличало сочетание чувственно-эмоционального начала с живым активным интеллектом, стремление в иллюстрациях не только к внешней маэстрии, но и к угадке эмоциональной заряженности авторского текста.
Есть ещё одна черта, роднящая этих двух талантливых мастеров, успешно работавших в живописи и графике, – это богатство и смелость воображения.
Серьёзный и глубокий искусствовед Н.М. Тарабукин, в прошлом ученик М.К. Соколова, в своём докладе в ГАХНе «Колористичность и живописность в работах художника Михаила Соколова» (1929) рассказал о том, что в живописной серии «Старая Москва» была «изображена приземистая, сросшаяся с землёй ветхая церковь, окрашенная в какой-то трудно определимый красноватый цвет. «Какая из церквей изображена»? – спросил он художника. Тот лукаво посмотрел и ответил: «Московская! Ведь это синтез. В действительности такой, может быть, и нет. Но она всё же, московская».
Тарабукин восхитился: «Вот достойный ответ художника, мыслящего образом. Что убеждает в картине? Её жизненность. Она не списана с действительности, но она живёт, подобно действительности. Перед зрителем образ, то есть неизбежно живое, ибо образ рождается».
В статье «Искусство М. Соколова» исследователь его творчества Н. Третьяков справедливо отмечает: «Он создаёт множество родственных вариаций, идёт к цели на ощупь, полагаясь на удачные находки случайной импровизации».
Критик почти повторяет высказывание самого художника в одном из писем Н.В. Верещагиной: «Я на одну тему делаю много вариаций, и это совсем не повторение – это мой способ овладения темой…»
Думается, что Валентин Юстицкий, без всякого сомнения, мог бы повторить подобное признание и о собственном методе работы.
В аналогичной позиции Юстицкого разгадка основного характера данного цикла: его тогдашняя погружённость в пушкинскую эпоху, в реалии повседневной жизни той поры, в поэтику его стихотворений и прозы – настойчивое субъективное вживание в существо самой поэтической материи пушкинских творений. И это совершенно очевидно в его рисунках.
Лишь ассоциативно связанные вовсе не с конкретными произведениями, а с общими чертами творчества, они отзвучны характерной интонации его поэзии, самой музыкальной вибрации пушкинского стиха.
Вроде бы листы это совершенно самостоятельные, каждый вполне самодостаточен, но глубинно они связанны между собой единством общего замысла, общим эмоциональным тонусом всего этого цикла: такова его сквозная эмоциональная тема.
Можно только подивиться той неудержимой энергии, которая в не слишком комфортных условиях толкала его множить и множить такие экспромтные рисунки. Зудящая потребность свободного творческого самовыражения и породила эти листы, у которых не было шансов на иную реализацию, кроме сугубо художественной. И это в годы острой нужды и жизненной неустроенности.
В подобной бесконечной вариативности близких мотивов проглядывает творческая расточительность художника, свободно импровизирующего на заданные мотивы. И в основе её лежит безудержное, стремительное и экспрессивное самовыражение самого Юстицкого. А потому верная суммарная характеристика здесь гораздо плодотворнее дробной описательности при перечислении буквально всех рисунков серии.
«Выразительность, выразительность и ещё раз выразительность – вот единственная доблесть рисунка», – прокламировал Владимир Милашевский. Валентин Юстицкий, отличавшийся врождённым артистизмом художественного мышления, в своих листах пушкинской серии вполне соответствовал этому определению.
Ненатужный, летучий рисунок Юстицкого, его пластическая активность, смелая энергия штриха, предельный лаконизм обобщённых форм сродни манере пушкинских рисунков, основному характеру их изобразительно-выразительных средств.
Он выражал в них скорее стилистику пушкинских творений, их эмоциональное звучание, нежели повествовательные мотивы, и, отталкиваясь от его текстов, передавал собственные свои представления о жизни той эпохи.
Выставка в ГМИИ рисунков В.А. Милашевского из собрания Воронежского художественного музея называлась «Иллюстрация, как верность стилю». В ещё большей мере это название приложимо к пушкиниане Юстицкого: её отличает верность стилю поэта и верность собственной стилистике.
Так уж случилось, что именно в коллекции Андрея Морозова, где сконцентрировалась самая обширная часть этой серии рисунков, явно доминируют те, где отчётливо проявился не столько содержательно-смысловой подход к иллюстрированию, сколько эмоционально-стилистический, где сюжетные прямые переклички изображения со словом сменились скорее лишь чисто ассоциативной близостью. Но именно такие листы и наиболее интересны в собственно графическом отношении.
Неугомонный обновитель своей стилистики, Юстицкий, видимо, почувствовал, что именно эмоционально-метафорический способ иллюстрирования в большей мере обнаруживает наличие психологического и творческого избирательного сродства его самого как художника-интерпретатора с поэтом.
Ибо в подобных листах, сберегая свежесть собственного своего графического прочтения текстов и сохраняя их стилистическую и эмоциональную окраску, он отражает пушкинскую летучую скоропись, «избыточную энергию» его письма и рисунка – то, что Абрам Эфрос очень метко называл «пафосом экспромта».
Они и делались, вероятно, в один присест. Динамическая выразительность этих стремительно набросанных листов Юстицкого, прихотливая виртуозность его линий и штрихов передают пульс пушкинской стилистики, открывая самое сокровенное в ней, ибо дух поэта гораздо важнее для художника, нежели сюжеты его стихов или прозы – не зримая точность передачи текста волнует иллюстратора, а передача его эмоционального звучания.
И не так уж просто восстановить ход творческой мысли художника в этих рисунках, лишь ассоциативно связанных, не столько с конкретными произведениями, как с общими чертами пушкинского творчества, отзвучных характерной интонации его поэзии.
Как утверждал в своей статье «Иллюстрация» (1923) Юрий Тынянов, «никто не может отрицать права иллюстраций на существование в качестве самостоятельных произведений графики». Таковыми они остаются у Юстицкого и в тех случаях, когда он приоткрывает мотивы конкретного произведения с помощью значимого визуального намёка, играющего роль локально-сюжетной привязки к конкретному тексту.
Увидев на рисунке Юстицкого конного богатыря у шатра Шамаханской царицы, сразу вспоминаешь пушкинского «Золотого петушка», а медведь у постели спящей девушки явно намекает на сон Татьяны Лариной из его «Евгения Онегина».
Человек, стоящий у клетки, и улетающая птица – несомненно, отклик на стихотворение «Птичка» 1823 года, а вариации изображений пишущего в келье монаха легко ассоциируются с Пименом из драмы «Борис Годунов».
А воротившийся домой Пушкин и женщина с младенцем на руках (другой ползает на полу) – явно намёк на строки его «Послания к цензору» («Жена и дети, друг, поверь – большое зло…»).
Мужчина, разглядывающий игральную карту и очертания умершей старухи на фоне, как бы воскресающей в воображении игрока, пробуждают в памяти персонажей «Пиковой дамы». Этот образ не оставлял его и годы спустя.
Уже в лагерные годы он вновь возвращается к психологической драме этого пушкинского творения.14 ноября 1939 года он делится с Анисимовой мучающим его раздумьем о нём: «Хочу начать одну интересную работу по вечерам. Это иллюстрации к «Пиковой даме». Хочу её сделать совершенно по-особенному, так как весь план этой вещи я пересмотрел, и эта вещь мне представилась совершенно по-иному.
Образ Германа, старой графини, стиль эпохи, азарт смешивается с огромной страстностью Германа, а лейтмотив – это какой-то кошмар. Я перечитал всего Пушкина. Это была единственная у меня книга. Я её перечитал совершенно спокойно, не пережив ничего нового, и только одна вещь совершенно по-новому прозвучала – это «Пиковая дама»…
Ряд скабрезных рисунков, где художник, акцентируя грубо-физиологическое начало, обыгрывая вульгарные подробности, решается на конкретно-наглядное образное воссоздание весьма пикантных ситуаций, бесспорно, перекликается с мотивами разыгравшейся эротической фантазии пушкинской «Гаврилиады», «этой прелестной пакости», как определил её младший друг поэта, один из «архивных юношей» Сергей Соболевский.
Насмешливое покушение на сакральное, когда «непорочное зачатие» предваряют эротические усилия сатаны, архангела Гавриила и Духа святого, ставят под сомнение реальное отцовство Божьего сына, не могло восприниматься иначе как богохульное святотатство и покушение на самые основы религиозных верований.
Это, естественно, не могло не вызвать возмущённое раздражение клира и накликать на голову поэта и монарший гнев. Пушкин поначалу принуждён был отрекаться от своего авторства, которое принесло ему много неприятностей и вполне реализуемых угроз.
Вероятно, что с «Гаврилиадой» связан и чисто биографический рисунок Юстицкого: коленопреклоненный и всклокоченный Пушкин с демонстративным крестиком на груди, уронивший рукопись и перо, испуганно оправдывается перед насупленным императором, а унтер-пришибеевского типа государь грозит ему своим кулачищем.
Почти столь же «рискованные», как в рисунках к «Гаврилиаде», сценки в группе других рисунков, судя по характеристикам персонажей, относятся к ранней пушкинской поэме «Руслан и Людмила», насыщенной ироническим обыгрыванием эротики.
А раскованный игриво-иронический тон ряда рисунков явно перекликается с интонацией пушкинского «Графа Нулина».
Никаких сомнений не вызывают рисунки к «Сказке о рыбаке и рыбке», особенно с изображением тощего старика с неводом, в котором трепыхается рыбка, и стоящей на высоком берегу, как монумент, старухой, что-то властно указующей ему.
Неоспоримы и листы к «Сказке о Попе и работнике его Балде», где Балда даёт щелчок самому главному чёрту, заметно смахивающему на незабвенного Ильича, ежедневно и уж очень навязчиво всенародно прославляемого в 1930-е годы.
Наверняка к пушкинскому «Дон Жуану» условный рисунок, где ангел, слетающий с небес, поражает нечестивца около лишь слегка обозначенной статуи командора.
Рисунок, где черти, преследуют сидящего на лошади юного поэта, вероятнее всего, создан по мотивам самого раннего из сохранившихся произведения четырнадцатилетнего Пушкина «Монах». Песнь 3-я (1813).
Можно предположить, что изображённый Юстицким всадник, стремительно мчащийся вслед за бегущей собакой и целящийся из ружья в летящую птицу, навеян строками из той строфы «Евгения Онегина», которая была напечатана лишь в первом его издании (глава четвёртая): «У всякого своя охота, / Своя любимая забота: / Кто целит в уток из ружья, / Кто бредит рифмами, как я … »
Сам заядлый охотник и страстный любитель лошадей, он, видимо, не мог отказать себе в удовольствии графически воплотить этот мотив.
Во всех этих случаях, как и в ряде других, коллекционер, напечатавший рядом с репродукцией этого рисунка пушкинские строки, пожалуй, ничуть не ошибся: очень уж ложится каждый рисунок на текст, а может, напротив – текст на рисунок.
Один из рисунков воспринимается как запечатленная проекция его воспоминания об эпатажной постановке «Евгения Онегина» на сцене руководимого им театрика «Арена ПОЭХМА» (поэт, художник, музыкант, актёр), описанная в воспоминаниях Даниила Дарана.
«После спектакля устраивался дивертисмент, где выступали все участники труппы. Профессор саратовских мастерских Константин Поляков изображал дрессировщика в цирке. Выходил он в чёрном сюртуке, в цилиндре и с большим хлыстом. Остановившись на середине сцены, он снимал цилиндр, расхаживая, щёлкал три раза хлыстом, как бы гоняя лошадь по арене».
Есть доля вероятности в предположении А. Морозова, что озорной и явно фантазийный рисунок Юстицкого, изобразившего Пушкина в шляпе и с рюмкой в руке, мчащегося на лошади, столь сильно удлинённой, чтобы на крупе её во весть рост разместилась обнажённая девушка, навеяли строки из пятой главы «Евгения Онегина».
«За ним строй рюмок узких, длинных, / Подобных талии твоей, / Зизи, кристалл души моей, / Предмет стихов моих невинных, / Любви приманчивый фиал, / Ты, от кого я пьян бывал»! Догадка эта и вполне вероятна, и почти недоказуема разом.
Тогда как рисунок, изображающий Пушкина всадником с рукой обращённой к летящей Музе, таких сомнений не вызывает: строки его юношеского стихотворения «Мечтатель», обращённые к музе «О будь мне спутницей младой / До самых врат могилы» раскрыты визуально. Тем более что Муза и впрямь до конца оставалась верной мечте поэта.
Столь же убедительно ложится на строки из пушкинских «Бесов» и рисунок Юстицкого изображающий поэта в кибитке, которую бешеная тройка несёт во весь опор сквозь буран, увозя от кружащихся вокруг бесов, примнившихся и автору, и даже слегка бесоватому кучеру.
Или другой рисунок, где изображён Пушкин, подъехавший на коне к пограничному столбу, а некий полицейский чин протягивает ему конверт с гербовыми печатями, где, вероятнее всего, значится, что он, увы, всё ещё остается, если воспользоваться сленгом советской поры, «невыездным».
Думается, Андрей Морозов верно подобрал строки из пушкинского стихотворения «К Языкову»: «И я с весёлою душою / Оставить был совсем готов / Неволю невских берегов. И что ж? Гербовые заботы / Схватили за полы меня, / И на Неве, хоть нет охоты, / Прикованным остался я».
Любопытнейший пример многоаспектной иллюстрации к стихотворению «Деревня», написанному ещё двадцатилетним поэтом. Юстицкий нарисовал взъерошенного, широко шагающего Александра Пушкина, возбуждённо декламирующего свои призывные стихи.
За ним от собора на грузном тяжело ступающем коне едет военный с палашом в руке (вероятно император иди шеф жандармов). Можно назвать множество строк в этом стихотворении, которые внутренне отзвучны изображённому на этом рисунке.
Художник иллюстрирует не один какой-нибудь эпизод, он стремится выразить эмоциональный заряд всего произведения, характерного для пушкинской поэзии той поры, передать не столько те или иные сюжетные мотивы, а стилистику текста, его индивидуально-выразительные особенности, выразить своё понимание многозначности пушкинских текстов.
Повторяю: такого рода примеры составляют явное меньшинство в рассматриваемой здесь личной коллекции. Даже и в этих немногих рисунках становится очевидным, что повествовательные функции иллюстраций, рассказы о событиях текста утрачивают для этого художника первенствующую роль.
Ему важно другое: переводя фабульные задачи на второй план, избегая подробной описательности, он стремился, чтобы читатель-зритель силой разбуженного рисунком воображения самостоятельно домыслил сюжетно-фабульную ситуацию произведения, а главное – верно ощутил его эмоциональный тон.
В большинстве же своём рисунки эти и вовсе свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста. Это свободная интерпретация самого духа поэзии Пушкина, её преобладающей ритмики и стилистики. Поэтому многие из таких его рисунков обречены быть неразгаданными в их отношении к конкретному тексту: они ведь к «Пушкину вообще…».
Понятие графического рассказа совершенно неприложимо к этим листам: художник совершенно не склонен пересказывать рисунками тексты великого поэта, словно настаивая на самоценности своей графической реакции на прочитанное.
Изначально игнорируя специфику книжно-графической иллюстрации, он переходит к чисто импровизационному рисунку по мотивам, посвящённым Пушкину, но отражающих и собственную его личность. Меньше всего в каждом из них занимала Юстицкого внешне-описательная, собственно сюжетная их сторона.
Совершенно не книжный, намеренно станковый характер всего этого цикла вовсе не от слабостей отечественной полиграфической базы: её заведомая «некнижность» предопределена самим замыслом художника, своевольным откликом «по поводу» пушкинских текстов, но в чём-то и выработанными основами его графической стилистики.
Надо понять характер его творческого метода. Юстицкий не толкователь пушкинских произведений, а скорее, как говорится, «сочитатель», работающий в соавторстве с чутким к поэтике рисунка зрителем. Он стремится к совпадению с ним не в понимании тематики и сюжетики, а самого духа пушкинского творчества.
Мастер ищет зрительные соответствия свободно возникающим в своей душе отзвукам на темы пушкинских стихов, прозы или драматургии. Мгновенно запечатлеть мимолётную сценку, мелькнувшую в его воображении как реакцию на прочитанное или припомнившееся и одновременно дать кадр в задуманный цикл листов, посвящённых памяти великого поэта, самой набросочной недосказанностью стимулируя напряжённое восприятие зрителя.
Не озаботившись проблемами полиграфического конструирования книжной формы, оставаясь в пределах образного иллюстрирования, Юстицкий задумывался о том, как перевести на графический язык поэзию и прозу, передать визуально вербальную стилистику.
А о существенном различии конкретности в словесном и изобразительном творчестве толковал Ю. Тынянов ещё в самом начале 1920-х годов.
В этом, казалось бы, произвольном чередовании самостоятельных кадров из жизни и творчества поэта, проступают содержательные связи, открывающие общий смысл целого, складывающегося из продуманной совокупности отдельных значимых её фрагментов. Вроде бы, листы эти совершенно самостоятельные, но глубинно они связанны между собой внутренне – такова сквозная эмоциональная тема всего цикла.
По прихотливому набору отдельных эпизодов не так уж просто постичь тот внутренний душевный процесс, который привёл Юстицкого к такому постижению Пушкина. Его отрешённо-раздумчивое восприятие пушкинских текстов и эпизодов жизни их автора, благодаря богатому воображению и чуткому проникновению художника в мир поэта, обретает самостоятельную ценность.
Это как раз тот случай, который в середине 1980-х Александр Якимович обозначил как «непокорное иллюстрирование» с выраженной позицией «равноправного автора», открыто утверждающего значимость собственных ассоциаций по поводу прочитанного. Он обозначает такие листы как «станковую графику по мотивам литературных произведений».
Такие рисунки и Юстицкого, конечно же, нельзя воспринимать только, как странную дерзость свободолюбивого художника. Они, безусловно, обладают не только самостоятельной художественной ценностью, но, думается, что рано или поздно прояснится и их законное место в поистине необозримой графической пушкиниане.
Со временем, когда будут осмысленны все, ныне рассеянные, листы обширнейшей серии Валентина Юстицкого, станет яснее и собственная образная концепция и внутренний импульс всего этого пушкинского цикла, как бы походя сымпровизированного художником.
В коллекции А.С. Морозова много рисунков, показывающих поэта в буднях его деревенской жизни, когда персонажем всей графической серии становятся не герои пушкинской поэзии и прозы, а сам поэт. Как бы длинная кинолента, то неторопливо движущихся, то стремительно проносящихся кадров. В них нет определённой фабулы, отдельного эпизода из биографии Пушкина, а есть стремление образно воссоздать общую атмосферу жизни поэта.
В деревне Пушкин почти не слезал с лошади: «я провожу верхом в поле всё время, когда я не в постели». Да и в пору южной ссылки его любимым занятием была верховая езда. «Наездник смирного Пегаса» в обыденной жизни любил гарцевать на коне, обладая достаточным наездническим опытом, он вовсе не чурался стремительных скачек, что наглядно отразилось и в его собственной графике.
Пушкинский рисунок буквально летящего всадника на черновике рукописи стихотворения «Делибаш» мог бы служить эпиграфом почти всех «деревенских» рисунков Юстицкого из обширного морозовского собрания.
Они представляют собой единую сюиту с вариациями тематически близких листов, которые отличает их внутренняя пружинистая напряжённость при видимой лёгкости стремительного движения пера. Скачущие наездники и целые кавалькады всадников и всадниц на лесных и полевых дорогах. Нередко изображены в них обнаженные дамы верхом или встречные крестьянские девки и молодые бабёнки голышом – почти в каждом рисунке.
Юстицкий явно не лишён был той пылкой чувственности, которая с юности и до гибели была в высшей степени присуща его герою, воспевавшему «любви безумную тревогу». По-пушкински раскованно-античное восприятие всесильного эроса, присущее и художнику, было в годы нэпа обострено в общественном сознании, уставшем от трагического напряжения первых революционных годов.
Гедонистическое мироощущение пришло на смену суровости и аскетизму. Эпикурейское жизнелюбие, интерес к чувственной, эротической стороне жизни обострился. Пушкинское «пью жадно воздух сладострастья» находило достаточно широкий общественный отзвук к середине 1920-х годов. А к началу 1930-х снова повеяло суровым аскетизмом. На этот раз скорее имитированным, псевдореволюционным.
То, что Юстицкий и в середине 1930-х шёл в этом против волны, связано не только с лично-биографической его ситуацией той поры, но и с его неиссякаемым вольнолюбием, нежеланием подчиниться общественному диктату.
А Пушкин с его «повышенной эротической чуткостью», отмечаемой и современниками, и биографами, всегда воспевавший «восторг и дерзость наслаждений», давал художнику широкие возможности визуальной реализации подобных настроений: «Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть его не оставляла»,– вспоминал о поэте его младший брат Лев Пушкин.
Повышенное женолюбие, не чуждое жизнелюбивой натуре художника, сказалось в пушкинских рисунках в большом количестве профилей тех дам, чьим небезгрешным любимцем поэту доводилось порою бывать.
Юстицкий, похоже, не отличался беззаботной неразборчивостью, свойственной Пушкину, но постником в этом деле тоже не был, всегда оставаясь вполне эмансипированной личностью. Многие рисунки его отмечены нарочитой ненормативностью и свободой эротического воображения. Нередки в них и отзвуки «фаллического культа».
Впрочем, иные листы Юстицкого свидетельствуют скорее не столько о мужском «напоре», сколько о женской зазывности: обнажённые женские тела даны им не только в чувственно-грациозных, но и откровенно-эротических позах. Художник вовсе не избегает в этих своих рисунках наглядно-эпатажной «натуральности».
Слегка иронически обыграны их фигуры с трепетно-изогнутыми линиями порывно извивающихся тел. Пушкинские «минувшей резвости нескромные стихи» получают вполне адекватное визуальное воплощение во многих графических листах художника.
Не гоняясь особо за выдуманной идеальной красивостью, Юстицкий рисует не слишком-то стыдливых крестьянок из окрестных деревень, приветливо встречающих весёлого и доброго барина, возвышающегося, как правило, в седле.
Обнажённые тела их, то стройные и гибкие, то плотные, крепко сбитые, дышат здоровьем и свежестью. Эротика художника, как и поэта, вовсе не похожа на смакование «голенького» у дряхлеющих эротоманов: это откровенная и грубоватая чувственность ещё полных жизненной силы и упоённых ею людей.
Русская литературная и изобразительная эротика, не говоря уж о советской, развивалась полуподпольно не только вследствие государственных запретов, но также и потому, что отечественное искусство в подцензурной стране брало на себя функции политологические и идеологические. И хотя первая половина 1930-х годов была ещё не столь однозначной и куда более разнообразной, чем её представляли позднее, но тенденция к всеобщей идеологизации всего уже обозначилась вполне отчётливо.
И стремление психологически одолеть всякого рода табу, навязываемые властью, ту гнетущую атмосферу всяческих ограничений личной свободы хотя бы в сфере сугубо частной жизни, нарушая любые запреты, и породили такую раскованность в трактовке эротической тематики.
Но подобная раскрепощённость уже к середине 1930-х не была в нравах той жёсткой, заидеологизированной эпохи. Конечно, не все готовы были с этим смириться, но о последствиях, увы, приходилось задумываться.
Среди листов этой группы есть несколько рисунков с изображением стремительного, буквально полётного движения проносящихся всадников. Они отмечены совершенно особой стремительностью – стремительностью как темой графического повествования, стремительностью самого изображения, а не только изображённого. Они заметно выделяются спонтанной динамикой и выраженной экспрессией формы.
Лаконично-экспрессивные рисунки эти дают как бы обобщающую формулу скачки. Они отмечены не только артистизмом художественного мышления, но также и выработанным артистизмом исполнения: легчайшее, но уверенное и стремительное касание пера к бумаге листа, ощущение полнейшей раскованности и свободы графического почерка, предельная скупость выразительных средств для достижения высокой экспрессии.
Особенно впечатляет очень узкий и сильно вытянутый по горизонтали рисунок несущейся кавалькады семи всадников – сложнейшая миниатюрная композиция, созданная явно в один присест, без последующих поправок, доработок. За этим стоит громадный навык рисования «по воображению», которое мгновенно «считывает» любой импульс, и стремительно запечатлевает его на плоскости листа.
Владимир Милашевский, прокламируя импульсивное свободное рисование, писал: «Пусть перо, обмакнутое в тушь, „резвится" по бумаге, как счастливая молодая девушка в танце, пусть оно острит, улыбается, иронизирует».
Но он-то вёл речь, прежде всего, о натурных рисунках, передающих мгновенное впечатление от реально виденного. Такие беглые натурные или созданные по памяти рисунки у Юстицкого тоже были: несколько прекрасных образцов хранятся в Радищевском музее. Один – очень скромный городской пейзаж – есть и в собрании Андрея Морозова.
Однако гораздо интереснее фантазийные его рисунки: торжественное увенчивание Пушкина на Парнасе или Пушкин, сняв шляпу, приветствующий с лошади кентавра, Пушкин, стоящий с кнутом в руке на арене цирка, дирижирующий выступлением обнажённых наездниц, Муза на летящем коне везёт приветствующему её Александру Пушкину лиру.
Порывистая, совершенно лишённая взвинченной нервозности, графическая «скоропись» Юстицкого, непринуждённость его затейливых фантазий, словно походя рождаемых богатым и раскованным воображением, именно этим и подкупают зрителя.
В подобных листах, оживленных лёгкой и неназойливой акварельной подцветкой, как бы нарочито неубранными эскизными штришками карандаша, демонстрирующими свободу и непринуждённость, словно бы, непроизвольного исполнения, Юстицкий акцентирует прихотливую случайность мимоходных ассоциаций, мгновенность своих стремительно меняющихся впечатлений, как и естественную элегантность своей манеры исполнения.
**********************************************************************************
В морозовской коллекции рисунков Валентина Юстицкого есть ещё две группы листов, никак не связанных с пушкинской проблематикой. Одну из них можно условно обозначить как пляжную. А другая группа – буквально несколько рисунков – отмечена нескрываемым ироническим отношением к советской действительности. Можно предположить, что обе они, особенно вторая, были более обширными, чем представлены у него. Но всё это на день нынешний, конечно, гадательно.
Думается, что эти работы отчасти автобиографичны. Они говорят о сегодняшнем дне художника времени их создания. Ощущение своей неукоренённости в московской жизни, точнее сказать – на обочине её, он словно компенсировал радостями летнего отдыха вдали от столичной суеты, укрывшись на лоне природы от навязываемого массового единомыслия, с упоением предаваясь плотским удовольствиям, утехам полнокровной, ничем не сдерживаемой чувственности.
Ещё не утративший молодого задора, он мог бы повторить за любимым поэтом: «Любовь и жажда наслаждений / Одни преследуют мой ум…» В большинстве этих, лишенных отрешённой идилличности, пляжных рисунков, заметно стремление к откровенной и острой подаче образа, ощущение жизнерадостной уверенности в своей желанности и в своих ещё не истощившихся силах.
Эти рисунки, отмеченные такой непосредственной жизненностью, тем, что именуют физиологическим натурализмом, существенно отличаются от виртуознейших отвлечённо эротических, в сущности выхолощенных, фантазий в рисунках обширнейшего цикла уже заметно состарившегося Пабло Пикассо.
Столь неприкрытая раскрепощённость воображения, порою гротесково заострённая, с ироническим обыгрыванием патетики жестов и телодвижений, уже расходилась с существенно меняющимися нравами прочно утвердившейся тоталитарной эпохи. И дело не только в акцентированной демонстрации пресловутого «мужского достоинства», сколько в создании общей эротической атмосферы.
Сюжеты их по тому времени достаточно сомнительные, относящиеся уже к числу запретных. Прямо-таки по-пушкински, с его безоглядной откровенностью, не знающей ложного стыда: «Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний…» Родство душ и в этой тоже их перекличке.
Ханжеское отношение к мотивам грубовато-эротическим, утверждавшееся в отечественном искусстве как раз на рубеже 20-30-х годов, художник игнорировал. Так проявлялась его своевольная индивидуальность в эпоху утвердившегося тотального коллективизма.
Юстицкий всегда оставался Юстицким, не утрачивая прирождённого гедонистического начала, склонности к раскованному озорству, тяги к насмешливому скоморошеству. «Бес благонравный скуки тайной…» (А.С. Пушкин) не одолевал его: трудности жизненные были, и они усиливались в тот период очень уж заметно, надежды таяли. Но … скуки не было.
Её не допускала к душе непреходящая юность художника, затянувшаяся на всю его жизнь. Ей препятствовала и дерзкая нелояльность к властям предержащим, приведшая его, по слову большого советского поэта, «В места по прозванью не столь отдалённые, / Хотя бы лежали за дальними далями» (А.Т.Твардовский).
Тотальная мифологизация общественного сознания, словно бы, не распространялась на него. Валентин Юстицкий, думается, практически избежал её. Во всяком случае, он сумел сохранить здраво-ироническое отношение к творящемуся вокруг.
Об этой насмешливой неприязни к отвердевающему режиму свидетельствуют очень немногие сохранившиеся рисунки по мотивам вполне современной художнику советской жизни. Все они тоже густо пропитаны грубоватой эротикой, казавшейся в ту пору уже заведомо непристойной. Он не чурается изображения неуправляемой разнузданной чувственности, но с заметным ироническим коррективом. Все эти листы откровенно шаржированы.
На одном из них – художник, пишущий стоящую обнажённую модель, которая, подняв одну ногу, нетерпеливо указывает ему пальцем на своё «причинное место».
Другой лист, самый, пожалуй, невинный эротически, но не политически, изображает пышногрудых и крепконогих, совершенно обнажённых девиц, бодро вышагивающих с развевающимися красными флагами, явно отправляющихся прямиком «в означенную даль…» Он озаглавлен самим автором: «Три грации для нашей агитации».
В третьем листе доблестный красный воин с винтовкой в руках «штурмует» убегающую, скорее даже летящую в свободном прыжке, крестьянскую девку, вооружённую серпом.
В четвёртом – не менее доблестный вояка в кубанке, при винтовке с приткнутым штыком на плече и с саблей в другой руке, расстегнув ширинку галифе, пытается «обиходить» почти сомлевшую от таких нежностей барышню. Элемент откровенного ёрничества в его грубоватой эротике сразу бросается в глаза.
Пятый лист явно символизирует ожидаемую полюбовную «смычку города и деревни»: слева на коленях обнажённый пролетарий (в одной руке рабочий молот, в другой уж слишком гиперболизированное «мужское достоинство») молитвенно устремивший взор, к наезжающей на него и вопящей в экстазе, обнажённой крестьянке в платочке и с серпом в руке на вздыбленном коне. А над серпом лучится и победоносно сияет пятиконечная звезда. Отношение художника к официальной пропаганде сомнений не вызывает.
Шестой лист достаточно загадочный. Именуется он надписью «Царь Гондон». Юстицкий изобразил восседающего на троне бородатого абсолютного монарха с яблоком в руке над головой дамы, сидящей в центре, меж других двух обнажённых «граций».
Судя по опечаленным лицам её подружек-конкуренток, сидящих от неё слева и справа, именно она уже высочайше признана повелителем прекраснейшей из них. Державный Парис, как это всегда бывает, неоспоримо прав…
Владелец коллекции предположил здесь (и вполне резонно) карикатуру на Сталина, ибо ясно читаются с двух сторон надписи, увенчивающей голову царя, небольшие изображения серпа и молота. И впрямь, в какой ещё стране могла быть принята в то время такая символика?
О том, чем грозили художнику такие рисунки, догадаться совсем нетрудно. Не случайно они так поздно дошли до нас. И нет никакой уверенности, что все…
Судьба очень медленно и трудно складывающегося «юстицковедения» ещё окончательно не определилась. Думается, что делать итоговые выводы о значении его творчества пока рано. Хотя прошло уже достаточно много времени после его смерти, но среди художников его уровня он по-прежнему недостаточно известен. Особенно для большинства исследователей обеих столиц, где он не то чтобы позабыт, а скорее почти не узнан.
Осталось и немало серьёзных вопросов. Сохранились ли его дореволюционные произведения ранней поры в Вильно, Париже, Москве, Костроме? Или те, что экспонировались в советское время на зарубежных выставках? Знаем ли мы всё (хотя бы основное) о работах саратовского периода – от лабораторного экспериментаторства самых первых советских годов, до самых последних его работ?
И последнее: в лагере ему довелось исполнять заказные и копийные работы. Судя по его письмам, он относился к ним достаточно серьёзно, видя в них редкую в его условиях возможность существенно совершенствовать свою технику живописи традиционного реалистического искусства, обогащённую достижениями великих новаторов нового времени, прежде всего, Поля Сезанна.
«Я работаю с каким-то невероятным упорством, со страшной детализацией, усложняя и углубляя часто простую задачу. Барбизонцы мои единственные друзья, я работаю с нескрываемым увлечением. Я вспоминаю их технику, их приёмы, их поразительное отношение к картине. Это так увлекательно, когда добиваешься почувствовать их существо.
Но Сезанн! Что бы я ни делал, этот мастер присутствует в моих вещах. Это что-то органическое, и даже тогда, когда я пишу вещи, где и в помине нет сезаннизма, он всё же где-то проскальзывает. Это печать французской школы. В барбизонцах он не мешает, он сживается с Курбе, и в этом есть какая-то цельная линия».
Любопытно, что, исполняя чисто копийные задания, Юстицкий и к ним подходил сугубо творчески, не умея заставить себя полностью отрешиться от персонального претворения, воссоздаваемого им чужого художественного материала: «В копиях не нужна индивидуальность, а она прёт из каждой щели… Но и на любую копию можно смотреть с определённых задач, тогда это интересно»,– писал он Анисимовой.
Как видим, существенно меняется, уточняясь и углубляясь, его отношение к реалистической живописи. Однако, это не поколебало представлений мастера о значении творческого воображения в работе живописца, об активной преобразующей роли его при создании художественного произведения, об опасностях подражательного бескрылого натурализма, грозящих робкому художнику, слишком зависимому от избыточного почтения к натурной достоверности, связанной с задачей буквального её воссоздания на плоскости холста.
«Ты пишешь о том, что тебе мешает отсутствие натуры», обращается он к ученице. – И продолжает развивать свою мысль: «Нужно натуру изучать, нужно её знать, как её знали старики, т.е. вечно или постоянно её наблюдать. Но совершенно необязательно списывать её. Это только связывает художника.
Я тебе уже писал и повторяю, что между написанием картины (Эль Греко, Энгр, Мане, Гоген, Ван Гог) и описанием натуры большая и существенная разница. Нужно пользоваться натурой, подчиняя её художественному замыслу. Я тебе часто пишу о музыке потому, что нигде так не ясны, как в ней, сила настроения и сила воображения. Лучшие картины в мире созданы подъёмом воображения, высотой чувств и мыслей, а натура – только средство к достижению её. Возьми реализм Курбе, его «Похороны в Орнане». Там весь реализм в этой вещи подчинён её идее. Я был потрясён в своё время, когда увидел эту вещь».
Она рассказывала, что ему довелось за годы лагерной жизни создать немало копийных работ с русской и западной живописной классики, но ещё больше портретов (часто с фотографий), пейзажей окрестностей лагеря или воображаемых (по мотивам, подсказанным заказчиком), натюрмортов (чаще всего букетов), изредка изображения скачек, а также великое множество рисунков – автопортретов, портретных набросков с товарищей по лагерю, реже пейзажных акварелей. Но где же теперь отыщешь подавляющее большинство этих, столь отрадных для заключённого художника, лагерных его трудов?
Даже и сохранившееся его наследие довольно обширно и весьма разнородно. И достаточно ли мы знаем о характере его духовных интересов и о его душевной жизни?
Человеческая талантливость Юстицкого ничуть не уступала художнической. Он сумел сохранить и «душу живу», и творческий запал как за «колючкой» гулаговского архипелага, так и в чуть более просторной «зоне» расконвоированного своего бытия на рубеже 1940-х–1950-х.
Боль и горечь пережитого, их неизбывность, иллюзорность призрачной свободы по выходе в «большую зону», где тоже оказалось совсем не сладко… Конечно же, невольно искусство его существенно трансформировалось.
Полотна его последних лет нельзя сопоставлять с долагерными: это как бы работы уже другого художника. Таковы манерно-изысканные вариации позднего Юстицкого, смутные, нерасшифровываемые сполна.
Мир внешний как опосредованное отражение мира внутреннего с налётом некоторой демонстративной элитарности, намеренно отрешённый от гнетущей реальности и начисто лишённый общезначимых в ту пору чувствований и переживаний.
Рождается серия импровизированных живописных спектаклей в духе не то Ватто, не то Монтичелли, отдалённо перекликающихся с «карнавальной феерией» картин Башбеук-Меликяна. Любование красотой воображаемого с налётом таинственной недоговорённости.
Творчество Валентина Михайловича Юстицкого пережило годы запрета и относительного забвения. Оно трансформировались в идиллическую, чуть ироничную мечтательность: «Мы уже дошли до буколик, / Ибо путь наш был слишком горек, / И бесплоден с временем спор». (Давид Самойлов).
А спустя несколько десятилетий после смерти талантливого мастера, его искусство (во всём его разнообразии, хотя и не всё целиком) снова вернулось к зрителям. И, думается, уже навсегда. Ибо оно выдержало жестокое испытание реалиями трагической эпохи, а потому и займёт своё место в художественном наследии ушедшего столетия.
Теперь это уже гарантировано. Но соединёнными усилиями соответствующих учреждений культуры, как и отдельных заинтересованных и увлечённых людей, такое может случиться с куда большим размахом и полнотой. А главное – гораздо быстрее..
«Творческий акт есть самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда», – справедливо утверждал Николай Бердяев в своём труде «Философия свободы. Смысл творчества».
Нисколько не притязая на объективность своего суда, на окончательную непреложность своих оценок творчества Валентина Михайловича Юстицкого, ограничил себя только задачей посильного понимания и трактовки именно самого смысла художественного наследия этого разносторонне одарённого мастера на материале обширной подборки его рисунков в коллекции Андрея Морозова. Но даже и её выполнение, вероятно, не менее субъективно, чем и само его творчество.
Юстицкий явно не лишён был той пылкой чувственности, которая с юности и до гибели была в высшей степени присуща его герою, воспевавшему «любви безумную тревогу». По-пушкински раскованно-античное восприятие всесильного эроса, присущее и художнику, было в годы нэпа обострено в общественном сознании, уставшем от трагического напряжения первых революционных годов.
Гедонистическое мироощущение пришло на смену суровости и аскетизму. Эпикурейское жизнелюбие, интерес к чувственной, эротической стороне жизни обострился. Пушкинское «пью жадно воздух сладострастья» находило достаточно широкий общественный отзвук к середине 1920-х годов. А к началу 1930-х снова повеяло суровым аскетизмом. На этот раз скорее имитированным, псевдореволюционным.
То, что Юстицкий и в середине 1930-х шёл в этом против волны, связано не только с лично-биографической его ситуацией той поры, но и с его неиссякаемым вольнолюбием, нежеланием подчиниться общественному диктату.
А Пушкин с его «повышенной эротической чуткостью», отмечаемой и современниками, и биографами, всегда воспевавший «восторг и дерзость наслаждений», давал художнику широкие возможности визуальной реализации подобных настроений: «Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть его не оставляла»,– вспоминал о поэте его младший брат Лев Пушкин.
Повышенное женолюбие, не чуждое жизнелюбивой натуре художника, сказалось в пушкинских рисунках в большом количестве профилей тех дам, чьим небезгрешным любимцем поэту доводилось порою бывать.
Юстицкий, похоже, не отличался беззаботной неразборчивостью, свойственной Пушкину, но постником в этом деле тоже не был, всегда оставаясь вполне эмансипированной личностью. Многие рисунки его отмечены нарочитой ненормативностью и свободой эротического воображения. Нередки в них и отзвуки «фаллического культа».
Впрочем, иные листы Юстицкого свидетельствуют скорее не столько о мужском «напоре», сколько о женской зазывности: обнажённые женские тела даны им не только в чувственно-грациозных, но и откровенно-эротических позах. Художник вовсе не избегает в этих своих рисунках наглядно-эпатажной «натуральности».
Слегка иронически обыграны их фигуры с трепетно-изогнутыми линиями порывно извивающихся тел. Пушкинские «минувшей резвости нескромные стихи» получают вполне адекватное визуальное воплощение во многих графических листах художника.
Не гоняясь особо за выдуманной идеальной красивостью, Юстицкий рисует не слишком-то стыдливых крестьянок из окрестных деревень, приветливо встречающих весёлого и доброго барина, возвышающегося, как правило, в седле.
Обнажённые тела их, то стройные и гибкие, то плотные, крепко сбитые, дышат здоровьем и свежестью. Эротика художника, как и поэта, вовсе не похожа на смакование «голенького» у дряхлеющих эротоманов: это откровенная и грубоватая чувственность ещё полных жизненной силы и упоённых ею людей.
Русская литературная и изобразительная эротика, не говоря уж о советской, развивалась полуподпольно не только вследствие государственных запретов, но также и потому, что отечественное искусство в подцензурной стране брало на себя функции политологические и идеологические. И хотя первая половина 1930-х годов была ещё не столь однозначной и куда более разнообразной, чем её представляли позднее, но тенденция к всеобщей идеологизации всего уже обозначилась вполне отчётливо.
И стремление психологически одолеть всякого рода табу, навязываемые властью, ту гнетущую атмосферу всяческих ограничений личной свободы хотя бы в сфере сугубо частной жизни, нарушая любые запреты, и породили такую раскованность в трактовке эротической тематики.
Но подобная раскрепощённость уже к середине 1930-х не была в нравах той жёсткой, заидеологизированной эпохи. Конечно, не все готовы были с этим смириться, но о последствиях, увы, приходилось задумываться.
Среди листов этой группы есть несколько рисунков с изображением стремительного, буквально полётного движения проносящихся всадников. Они отмечены совершенно особой стремительностью – стремительностью как темой графического повествования, стремительностью самого изображения, а не только изображённого. Они заметно выделяются спонтанной динамикой и выраженной экспрессией формы.
Лаконично-экспрессивные рисунки эти дают как бы обобщающую формулу скачки. Они отмечены не только артистизмом художественного мышления, но также и выработанным артистизмом исполнения: легчайшее, но уверенное и стремительное касание пера к бумаге листа, ощущение полнейшей раскованности и свободы графического почерка, предельная скупость выразительных средств для достижения высокой экспрессии.
Особенно впечатляет очень узкий и сильно вытянутый по горизонтали рисунок несущейся кавалькады семи всадников – сложнейшая миниатюрная композиция, созданная явно в один присест, без последующих поправок, доработок. За этим стоит громадный навык рисования «по воображению», которое мгновенно «считывает» любой импульс, и стремительно запечатлевает его на плоскости листа.
Владимир Милашевский, прокламируя импульсивное свободное рисование, писал: «Пусть перо, обмакнутое в тушь, „резвится" по бумаге, как счастливая молодая девушка в танце, пусть оно острит, улыбается, иронизирует».
Но он-то вёл речь, прежде всего, о натурных рисунках, передающих мгновенное впечатление от реально виденного. Такие беглые натурные или созданные по памяти рисунки у Юстицкого тоже были: несколько прекрасных образцов хранятся в Радищевском музее. Один – очень скромный городской пейзаж – есть и в собрании Андрея Морозова.
Однако гораздо интереснее фантазийные его рисунки: торжественное увенчивание Пушкина на Парнасе или Пушкин, сняв шляпу, приветствующий с лошади кентавра, Пушкин, стоящий с кнутом в руке на арене цирка, дирижирующий выступлением обнажённых наездниц, Муза на летящем коне везёт приветствующему её Александру Пушкину лиру.
Порывистая, совершенно лишённая взвинченной нервозности, графическая «скоропись» Юстицкого, непринуждённость его затейливых фантазий, словно походя рождаемых богатым и раскованным воображением, именно этим и подкупают зрителя.
В подобных листах, оживленных лёгкой и неназойливой акварельной подцветкой, как бы нарочито неубранными эскизными штришками карандаша, демонстрирующими свободу и непринуждённость, словно бы, непроизвольного исполнения, Юстицкий акцентирует прихотливую случайность мимоходных ассоциаций, мгновенность своих стремительно меняющихся впечатлений, как и естественную элегантность своей манеры исполнения.
**********************************************************************************
В морозовской коллекции рисунков Валентина Юстицкого есть ещё две группы листов, никак не связанных с пушкинской проблематикой. Одну из них можно условно обозначить как пляжную. А другая группа – буквально несколько рисунков – отмечена нескрываемым ироническим отношением к советской действительности. Можно предположить, что обе они, особенно вторая, были более обширными, чем представлены у него. Но всё это на день нынешний, конечно, гадательно.
Думается, что эти работы отчасти автобиографичны. Они говорят о сегодняшнем дне художника времени их создания. Ощущение своей неукоренённости в московской жизни, точнее сказать – на обочине её, он словно компенсировал радостями летнего отдыха вдали от столичной суеты, укрывшись на лоне природы от навязываемого массового единомыслия, с упоением предаваясь плотским удовольствиям, утехам полнокровной, ничем не сдерживаемой чувственности.
Ещё не утративший молодого задора, он мог бы повторить за любимым поэтом: «Любовь и жажда наслаждений / Одни преследуют мой ум…» В большинстве этих, лишенных отрешённой идилличности, пляжных рисунков, заметно стремление к откровенной и острой подаче образа, ощущение жизнерадостной уверенности в своей желанности и в своих ещё не истощившихся силах.
Эти рисунки, отмеченные такой непосредственной жизненностью, тем, что именуют физиологическим натурализмом, существенно отличаются от виртуознейших отвлечённо эротических, в сущности выхолощенных, фантазий в рисунках обширнейшего цикла уже заметно состарившегося Пабло Пикассо.
Столь неприкрытая раскрепощённость воображения, порою гротесково заострённая, с ироническим обыгрыванием патетики жестов и телодвижений, уже расходилась с существенно меняющимися нравами прочно утвердившейся тоталитарной эпохи. И дело не только в акцентированной демонстрации пресловутого «мужского достоинства», сколько в создании общей эротической атмосферы.
Сюжеты их по тому времени достаточно сомнительные, относящиеся уже к числу запретных. Прямо-таки по-пушкински, с его безоглядной откровенностью, не знающей ложного стыда: «Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний…» Родство душ и в этой тоже их перекличке.
Ханжеское отношение к мотивам грубовато-эротическим, утверждавшееся в отечественном искусстве как раз на рубеже 20-30-х годов, художник игнорировал. Так проявлялась его своевольная индивидуальность в эпоху утвердившегося тотального коллективизма.
Юстицкий всегда оставался Юстицким, не утрачивая прирождённого гедонистического начала, склонности к раскованному озорству, тяги к насмешливому скоморошеству. «Бес благонравный скуки тайной…» (А.С. Пушкин) не одолевал его: трудности жизненные были, и они усиливались в тот период очень уж заметно, надежды таяли. Но … скуки не было.
Её не допускала к душе непреходящая юность художника, затянувшаяся на всю его жизнь. Ей препятствовала и дерзкая нелояльность к властям предержащим, приведшая его, по слову большого советского поэта, «В места по прозванью не столь отдалённые, / Хотя бы лежали за дальними далями» (А.Т.Твардовский).
Тотальная мифологизация общественного сознания, словно бы, не распространялась на него. Валентин Юстицкий, думается, практически избежал её. Во всяком случае, он сумел сохранить здраво-ироническое отношение к творящемуся вокруг.
Об этой насмешливой неприязни к отвердевающему режиму свидетельствуют очень немногие сохранившиеся рисунки по мотивам вполне современной художнику советской жизни. Все они тоже густо пропитаны грубоватой эротикой, казавшейся в ту пору уже заведомо непристойной. Он не чурается изображения неуправляемой разнузданной чувственности, но с заметным ироническим коррективом. Все эти листы откровенно шаржированы.
На одном из них – художник, пишущий стоящую обнажённую модель, которая, подняв одну ногу, нетерпеливо указывает ему пальцем на своё «причинное место».
Другой лист, самый, пожалуй, невинный эротически, но не политически, изображает пышногрудых и крепконогих, совершенно обнажённых девиц, бодро вышагивающих с развевающимися красными флагами, явно отправляющихся прямиком «в означенную даль…» Он озаглавлен самим автором: «Три грации для нашей агитации».
В третьем листе доблестный красный воин с винтовкой в руках «штурмует» убегающую, скорее даже летящую в свободном прыжке, крестьянскую девку, вооружённую серпом.
В четвёртом – не менее доблестный вояка в кубанке, при винтовке с приткнутым штыком на плече и с саблей в другой руке, расстегнув ширинку галифе, пытается «обиходить» почти сомлевшую от таких нежностей барышню. Элемент откровенного ёрничества в его грубоватой эротике сразу бросается в глаза.
Пятый лист явно символизирует ожидаемую полюбовную «смычку города и деревни»: слева на коленях обнажённый пролетарий (в одной руке рабочий молот, в другой уж слишком гиперболизированное «мужское достоинство») молитвенно устремивший взор, к наезжающей на него и вопящей в экстазе, обнажённой крестьянке в платочке и с серпом в руке на вздыбленном коне. А над серпом лучится и победоносно сияет пятиконечная звезда. Отношение художника к официальной пропаганде сомнений не вызывает.
Шестой лист достаточно загадочный. Именуется он надписью «Царь Гондон». Юстицкий изобразил восседающего на троне бородатого абсолютного монарха с яблоком в руке над головой дамы, сидящей в центре, меж других двух обнажённых «граций».
Судя по опечаленным лицам её подружек-конкуренток, сидящих от неё слева и справа, именно она уже высочайше признана повелителем прекраснейшей из них. Державный Парис, как это всегда бывает, неоспоримо прав…
Владелец коллекции предположил здесь (и вполне резонно) карикатуру на Сталина, ибо ясно читаются с двух сторон надписи, увенчивающей голову царя, небольшие изображения серпа и молота. И впрямь, в какой ещё стране могла быть принята в то время такая символика?
О том, чем грозили художнику такие рисунки, догадаться совсем нетрудно. Не случайно они так поздно дошли до нас. И нет никакой уверенности, что все…
Судьба очень медленно и трудно складывающегося «юстицковедения» ещё окончательно не определилась. Думается, что делать итоговые выводы о значении его творчества пока рано. Хотя прошло уже достаточно много времени после его смерти, но среди художников его уровня он по-прежнему недостаточно известен. Особенно для большинства исследователей обеих столиц, где он не то чтобы позабыт, а скорее почти не узнан.
Осталось и немало серьёзных вопросов. Сохранились ли его дореволюционные произведения ранней поры в Вильно, Париже, Москве, Костроме? Или те, что экспонировались в советское время на зарубежных выставках? Знаем ли мы всё (хотя бы основное) о работах саратовского периода – от лабораторного экспериментаторства самых первых советских годов, до самых последних его работ?
И последнее: в лагере ему довелось исполнять заказные и копийные работы. Судя по его письмам, он относился к ним достаточно серьёзно, видя в них редкую в его условиях возможность существенно совершенствовать свою технику живописи традиционного реалистического искусства, обогащённую достижениями великих новаторов нового времени, прежде всего, Поля Сезанна.
«Я работаю с каким-то невероятным упорством, со страшной детализацией, усложняя и углубляя часто простую задачу. Барбизонцы мои единственные друзья, я работаю с нескрываемым увлечением. Я вспоминаю их технику, их приёмы, их поразительное отношение к картине. Это так увлекательно, когда добиваешься почувствовать их существо.
Но Сезанн! Что бы я ни делал, этот мастер присутствует в моих вещах. Это что-то органическое, и даже тогда, когда я пишу вещи, где и в помине нет сезаннизма, он всё же где-то проскальзывает. Это печать французской школы. В барбизонцах он не мешает, он сживается с Курбе, и в этом есть какая-то цельная линия».
Любопытно, что, исполняя чисто копийные задания, Юстицкий и к ним подходил сугубо творчески, не умея заставить себя полностью отрешиться от персонального претворения, воссоздаваемого им чужого художественного материала: «В копиях не нужна индивидуальность, а она прёт из каждой щели… Но и на любую копию можно смотреть с определённых задач, тогда это интересно»,– писал он Анисимовой.
Как видим, существенно меняется, уточняясь и углубляясь, его отношение к реалистической живописи. Однако, это не поколебало представлений мастера о значении творческого воображения в работе живописца, об активной преобразующей роли его при создании художественного произведения, об опасностях подражательного бескрылого натурализма, грозящих робкому художнику, слишком зависимому от избыточного почтения к натурной достоверности, связанной с задачей буквального её воссоздания на плоскости холста.
«Ты пишешь о том, что тебе мешает отсутствие натуры», обращается он к ученице. – И продолжает развивать свою мысль: «Нужно натуру изучать, нужно её знать, как её знали старики, т.е. вечно или постоянно её наблюдать. Но совершенно необязательно списывать её. Это только связывает художника.
Я тебе уже писал и повторяю, что между написанием картины (Эль Греко, Энгр, Мане, Гоген, Ван Гог) и описанием натуры большая и существенная разница. Нужно пользоваться натурой, подчиняя её художественному замыслу. Я тебе часто пишу о музыке потому, что нигде так не ясны, как в ней, сила настроения и сила воображения. Лучшие картины в мире созданы подъёмом воображения, высотой чувств и мыслей, а натура – только средство к достижению её. Возьми реализм Курбе, его «Похороны в Орнане». Там весь реализм в этой вещи подчинён её идее. Я был потрясён в своё время, когда увидел эту вещь».
Она рассказывала, что ему довелось за годы лагерной жизни создать немало копийных работ с русской и западной живописной классики, но ещё больше портретов (часто с фотографий), пейзажей окрестностей лагеря или воображаемых (по мотивам, подсказанным заказчиком), натюрмортов (чаще всего букетов), изредка изображения скачек, а также великое множество рисунков – автопортретов, портретных набросков с товарищей по лагерю, реже пейзажных акварелей. Но где же теперь отыщешь подавляющее большинство этих, столь отрадных для заключённого художника, лагерных его трудов?
Даже и сохранившееся его наследие довольно обширно и весьма разнородно. И достаточно ли мы знаем о характере его духовных интересов и о его душевной жизни?
Человеческая талантливость Юстицкого ничуть не уступала художнической. Он сумел сохранить и «душу живу», и творческий запал как за «колючкой» гулаговского архипелага, так и в чуть более просторной «зоне» расконвоированного своего бытия на рубеже 1940-х–1950-х.
Боль и горечь пережитого, их неизбывность, иллюзорность призрачной свободы по выходе в «большую зону», где тоже оказалось совсем не сладко… Конечно же, невольно искусство его существенно трансформировалось.
Полотна его последних лет нельзя сопоставлять с долагерными: это как бы работы уже другого художника. Таковы манерно-изысканные вариации позднего Юстицкого, смутные, нерасшифровываемые сполна.
Мир внешний как опосредованное отражение мира внутреннего с налётом некоторой демонстративной элитарности, намеренно отрешённый от гнетущей реальности и начисто лишённый общезначимых в ту пору чувствований и переживаний.
Рождается серия импровизированных живописных спектаклей в духе не то Ватто, не то Монтичелли, отдалённо перекликающихся с «карнавальной феерией» картин Башбеук-Меликяна. Любование красотой воображаемого с налётом таинственной недоговорённости.
Творчество Валентина Михайловича Юстицкого пережило годы запрета и относительного забвения. Оно трансформировались в идиллическую, чуть ироничную мечтательность: «Мы уже дошли до буколик, / Ибо путь наш был слишком горек, / И бесплоден с временем спор». (Давид Самойлов).
А спустя несколько десятилетий после смерти талантливого мастера, его искусство (во всём его разнообразии, хотя и не всё целиком) снова вернулось к зрителям. И, думается, уже навсегда. Ибо оно выдержало жестокое испытание реалиями трагической эпохи, а потому и займёт своё место в художественном наследии ушедшего столетия.
Теперь это уже гарантировано. Но соединёнными усилиями соответствующих учреждений культуры, как и отдельных заинтересованных и увлечённых людей, такое может случиться с куда большим размахом и полнотой. А главное – гораздо быстрее..
«Творческий акт есть самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда», – справедливо утверждал Николай Бердяев в своём труде «Философия свободы. Смысл творчества».
Нисколько не притязая на объективность своего суда, на окончательную непреложность своих оценок творчества Валентина Михайловича Юстицкого, ограничил себя только задачей посильного понимания и трактовки именно самого смысла художественного наследия этого разносторонне одарённого мастера на материале обширной подборки его рисунков в коллекции Андрея Морозова. Но даже и её выполнение, вероятно, не менее субъективно, чем и само его творчество.
Ефим Водонос
VI-VI-2017
Саратов
VI-VI-2017
Саратов